Глава 1 ИСТОРИЯ АТОМНОГО ВЕКА
Намеки, сигналы и подсказки
Мир вокруг нас – это материя, напоенная энергией. Она может бушевать ураганным ветром или таиться в деревянных поленьях, ждущих огонька спички. Она способна сверкать в грозовых тучах или прятаться под гладью воды, готовой сорваться в ревущий водопад. Ей под силу двигать горы тектоническими толчками или терпеливо ожидать своего часа, зависнув каменной глыбой над ущельем. Вся природа насыщена энергией, и люди очень давно заметили этот факт. Сначала они решили, что имеют дело с божествами: так появились разнообразные древние культы. Поклонялись грому и молнии, пламени, буре – любой энергии, неистовствующей или спящей. Например, сакральными считались места, где в результате удара молнии сам собой возгорался факел природного газа. Около таких «вечных огней» строили храмы и проводили обряды.
С другой стороны, энергия постоянно намекала, что она может сгодиться не только для поклонения. Потоки воздуха гнули деревья, вода неторопливо перетаскивала камни по дну реки, горящие дрова обогревали жилище. Человек стал задумываться, как бы «запрячь» силу ветра, мощь бурлящего потока, тепло костра? Даже на грозовую молнию начал взирать по-хозяйски.
И вот, благодаря намекам, щедро подаваемым природой, тысячи лет назад закрутились колеса ветряных и водяных мельниц. Сегодня уже их далекие потомки – ветрогенераторы и гидротурбины – лопастями ловят механическую энергию воздушных и водяных масс. Появившиеся несколько столетий назад паровые машины и сегодняшние двигатели внутреннего сгорания «кормятся» химической энергией, запасенной в топливе. Электрическая энергия, привлекшая внимание еще древних греков, вращает изобретенные в девятнадцатом веке, но такие современные электродвигатели. А начиналось-то все с простых подсказок – разрядов атмосферного электричества, пылящих ветров, клокочущих речных порогов…
А атомная энергия? Сигнализировала ли она о своем существовании? Практически сразу на ум приходит отрицательный ответ, и тем удивительнее, что он – неправильный. «Атомные» сигналы человечеством были приняты, но долгое время их истинное значение оставалось тайной за семью печатями. Следует пояснить, что энергия, кроющаяся внутри атомов, способна проявлять себя в форме радиации. Загвоздка в том, что все наши органы чувств к ней совершенно безразличны. Как же могли люди, жившие за много столетий до нас, хоть что-нибудь заметить? И, тем не менее, замечали – по действию радиации на организм, часто весьма благотворному. Взять, к примеру, радоновые ванны, лечебные свойства которых напрямую связаны с радиацией. Оказывается, что их целительная сила широко использовалась еще во времена Римской империи, за две тысячи лет до сегодняшнего дня. Вспомнить хотя бы термальный бассейн Клеопатры в турецком Памуккале.
Необъяснимое благотворное действие заставляло считать радоновые источники даром богов или местами обитания духов, местами силы. Так, в японском городке Мисаса установлен памятник самураю Окубо Саманосуке, которому буддийское божество во сне указало путь к целебному источнику (онсэну). Это предание передается из поколения в поколение уже более восьмисот лет и, несомненно, придает колорит местному радоновому курорту. Наши буряты не отстают и делятся с туристами давними местными верованиями в духов-хозяев возвращающих здоровье родников.
Согласно легенде, в 1164 году Окубо Саманосуке, вассал известного рода Минамото, отправился на священную гору Митокусан, дабы совершить молитвенный обряд. Взбираясь к нагорному храму, он встретил белого волка и уже достал лук, но передумал убивать зверя. Этот поступок был вознагражден буддийским божеством Мекен-Босацу. Явившись во сне самураю, оно рассказало о целебном источнике, бьющем из пня дерева. В память об этом открытии одна из общественных купален в городке Мисаса носит имя «Кабую» (горячий источник из пня). Сегодня Мисаса – один из самых известных радоновых курортов в мире.
Подобные объяснения, безусловно, забавны и милы, но они не удовлетворяли ученых, привыкших искать материальные причины явлений. Известен исторический казус, произошедший со знаменитым немецким химиком Юстусом фон Либихом. Когда он заболел, врач посоветовал пациенту посетить источник Бад Гаштайн в Австрии. Воды Бад Гаштайна, обладающие необычной целебной силой, удивляли. Даже их электрические свойства были иными, нежели у обычной воды. Настоящий химик, Либих затребовал образцы, провел их детальный анализ и разочаровался. Зачем было ехать, если по составу «волшебная» вода ничем не отличалась от текущей из-под крана? Медику пришлось настаивать на своем, пока упорный ученый не согласился отправиться «на воды». К его большому удивлению лечение помогло. Наверное, «что-то электрическое», – решил Либих. Правильное объяснение, конечно, иное – радиоактивный радон, но отчасти химик оказался прав: радиация действительно влияет на электрические свойства среды, в которой распространяется.
История сохранила еще несколько примеров, когда люди фиксировали «фокусы» атомной энергии. Средневековые шахтеры, добывавшие серебро в Южной Саксонии, редко страдали болезнями суставов, а местное население успешно использовало пакеты с отходами рудного дела для лечения воспалительных заболеваний. Секрет врачевания открылся гораздо позже: серебру в этих рудах сопутствовал уран. Его содержали частички породы, прилипшие к одежде, вода шахтного происхождения, которую пили рудокопы, и, конечно, отходы. Радиация атомов урана и оказывала нужное действие.
В середине девятнадцатого века атомная энергия, видимо, уставшая ждать, подала наиболее яркий сигнал. Француз Абель Ньепс де Сент-Виктор (кстати, племянник первооткрывателя фотографии) заметил, что соединения урана вызывают почернение фоточувствительного материала в темноте! Он даже предположил существование «некоторого вида лучей, невидимых для глаз», был почти на грани великого открытия, но… не продолжил свои исследования.
Итак, энергия, спрятанная в самую глубину материи, настойчиво намекала человечеству о своем существовании и возможностях. Но нужно было накопить множество знаний и сломать устоявшуюся картину мира, чтобы дать атомной энергии выйти на сцену из темных кулис мироздания.
Пылинки в солнечном луче
О какой же картине мира идет речь? Если вкратце, – о классической, заложенной еще Ньютоном. Вселенная в ней представала этаким идеально отлаженным механизмом, довольно легко объяснимым и предсказуемым. Как часы.
Материя, согласно воззрениям того времени, тоже была устроена просто: все вещества состояли из атомов, различавшихся по свойствам. Возраст этой идеи перевалил за две тысячи лет, и она прочно укоренилась. Еще древнегреческий философ Демокрит, раздумывая над тем, сколько раз можно разделить кучку песка пополам, предположил, что бесконечно этот трудовой процесс продолжаться не может. В итоге упорный исследователь все равно доберется до мельчайшей частички, которую не удастся ни разорвать, ни разбить, ни разрезать. Несокрушимую частичку Демокрит так и назвал – атом, – соединив греческую приставку α-, по-русски обозначающую не-, со слегка измененным глаголом τέμνω (режу). Получился термин «неразрезаемый», который довольно точно отражал идею древнегреческого философа.
Слова атом, том, анатомия и томография – близкие родственники. Они не случайно содержат одинаковое сочетание букв «том», ведущее свое происхождение от греческого глагола τέμνω (режу, рублю, рассекаю). Действительно, анатомия и томография имеют отношение к получению срезов, сечений различных предметов, в том числе живых организмов. Если литературное произведение слишком длинное, то его «режут» на несколько томов. А вот атом разрезать нельзя, о чем напоминает отрицающая приставка «а-».
Представления о свойствах атомов постоянно совершенствовались. Теоретики решили, что они различаются по геометрической форме, причем форм – бесконечное множество: это объясняло разнообразие окружающего мира. Подумали и над тем, как атомы соединяются друг с другом: «одни шероховатые, другие округленные, частью же угловатые или с крючками, некоторые же искривленные и как бы изогнутые». По мнению философов, атомы «носились» в пустоте подобно пылинкам в луче света; и то, как они двигались, как соединялись вместе и какую форму имели, определяло ощущения людей – температуру, цвет, вкус, запах, гладкость предметов.
В Средневековье понятие атома никуда не исчезло, но и не совершенствовалось. Это было время расцвета алхимии, плотно слитой с магией, когда ученые искали способы превращения металлов в золото и обретения бессмертия. Успехом, как известно, поиски не увенчались, но попутно алхимики заложили основы современной химии и создали целый ряд металлургических, фармацевтических и пищевых технологий.
Лишь в начале девятнадцатого века английский химик Джон Дальтон (1766-1844) возродил идеи Демокрита, решив, что они хорошо объясняют накопленный научный опыт. Правда, к этому моменту атомы уже потеряли свое богатое разнообразие форм, и их представляли как одинаковые маленькие шарики. Вполне разумная гипотеза в отсутствие очевидцев. Тем не менее, одинаковость атомов мешала химии объяснить роскошь окружающего мира. Дальтон решил, что шарики все же нужно классифицировать – по химическим элементам. Например, все атомы железа следовало признать идентичными, ведь железо по всей планете одно и то же; но оно принципиально отличается от золота. А в чем разница между атомами железа и золота? Скорее всего, решил Дальтон, они имеют разные массы; тем более, на тот момент это было их единственное измеримое свойство. Химик составил первый перечень элементов с указанием атомных весов, а в 1869 году великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907) показал, что свойства химических элементов находятся в периодической зависимости от масс атомов.
И все же, разнообразные трансформации взглядов за два тысячелетия так и не затронули представление о неделимости мельчайших частиц материи. Химики увлеченно превращали одни вещества в другие, тасуя наборы атомов, но никто и помыслить не мог о возможности изменять сами атомы, перестраивая их изнутри. Время романтиков-алхимиков ушло, а серьезные ученые зачастую не могли перечеркнуть существовавшие догмы и стереотипы: «неразрезаемый» – значит, нечего и думать, что там внутри.
«Если бы море состояло из ртути, я превратил бы его в золото». Эти хвастливые слова приписывают одному из средневековых алхимиков, которые как один мечтали научиться «облагораживать» металлы. Как известно, ничего не вышло. А вот современный атомный реактор способен на такие чудеса: ртуть вполне можно трансформировать в короля металлов. Ложка дегтя заключается в следующем: из одного килограмма жидкого металла удастся получить лишь полтора грамма золота, которое будет значительно дороже обычного.
Но в девятнадцатом веке над устоявшейся картиной мира стали сгущаться тучи, появилось множество неразрешимых вопросов. Например, разные по массе элементы имели очень близкие характеристики. Взять, хотя бы, натрий и калий, кальций и магний, фтор и хлор… Открытие Менделеева сделало проблему всеобщей: в Периодической системе свойства элементов закономерно повторялись, невзирая на массу. Значит, дело было не только в ней. Какой-то неизвестный параметр атома «рулил» миром химических веществ и реакций.
В этот же период времени физики возились с электромагнитными явлениями и делали открытия, приводившие научный мир в замешательство. Английский ученый Майкл Фарадей (1791-1867), подробно исследовав процесс электролиза (химических реакций, идущих под действием тока), заявил, что «атомы… одарены электрическими силами». Но каким образом, опять какие-то «крючки»?! Пришлось ввести загадочный термин «ион», не поясняя его природу. Ничего удивительного: ясности в этом вопросе было ой как мало.
Масла в огонь подлили опыты с разрядными трубками. Простое устройство – герметичный стеклянный баллон под вакуумом, внутри которого находились два электрода, – демонстрировало удивительные эффекты. Когда трубку подключали к источнику высокого напряжения, отрицательный электрод (катод) начинал испускать в направлении положительного электрода (анода) загадочные лучи, получившие название катодных. Совершенно невидимые, они вращали встроенную в колбу вертушку, а значит, обладали массой и энергией. Если в трубке было немного газа, катодные лучи заставляли его светиться; при сильном вакууме оставалось лишь слабое зеленое свечение стекла в области анода. Правда, за анодом, в его геометрической тени, стекло было темным. По-видимому, лучи двигались прямолинейно, иначе четкая тень отсутствовала бы. Но их путь искривлялся при появлении магнита или электрического поля. Так могли вести себя только заряженные частицы. И еще, когда в трубке прорезали окошко, которое – для сохранения герметичности – закрывали тонким листиком алюминия, лучи выбирались наружу! Атомы так не могли. Но с чем же тогда ученые имели дело?

Ответы на многие животрепещущие вопросы были найдены в конце девятнадцатого и начале двадцатого века. Причем, так получилось, что эти ответы разрушили классическую картину мира, казавшуюся ранее незыблемой, – и разрядная трубка сыграла в этом деле очень важную роль.
Разрядная трубка напрямую связана с телевидением. Еще каких-то двадцать лет назад основой всех ТВ-приемников, компьютерных мониторов и дисплеев был кинескоп – а это и есть усовершенствованная разрядная трубка.
Скелет ладони
Немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген (1845-1923), как и многие другие, исследовал катодные лучи. Интерес к ним был неувядающим: природа лучей оставалась загадкой. Каждый мечтал разрешить ее. И все же, несмотря на ажиотаж, некоторые явления, связанные с разрядными трубками, незаслуженно оставались в тени.
В.К. Рентген
Например, ряд специалистов были уже в курсе, что вблизи работающей трубки нельзя хранить фотопластинки – они слегка засвечивались, «вуалировались», как говорили физики. Причем засветка происходила на расстоянии, которое катодные лучи просто не были способны пройти в воздухе. Но об этом противоречии забыли, когда появилась возможность вывести их из трубки наружу. Маленькое окошко, вырезанное в баллоне и закрытое алюминиевой фольгой микрометровой толщины, казалось, позволило наблюдать за загадочными лучами вне их обычной среды обитания. (Более толстые листики алюминия катодные лучи не выпускали, а микрометровые – пожалуйста).
Логично последовали эксперименты с засвечиванием фотопластинок. Их располагали напротив окошка, закрывали картоном и металлическими пластинами, чтобы посмотреть, как катодные лучи проходят через препятствия. При определенной толщине металла засвечивания не было. Тут возник щекотливый вопрос: если для «выпуска» катодных лучей из трубки нужна была очень тонкая фольга, то почему же за пределами прибора они проходили уже сквозь сравнительно толстые пластины и давали засветку? Может быть, кроме катодных, трубка испускала и еще какие-то, пока не обнаруженные лучи? И это они выбирались наружу?
По-видимому, указанное противоречие заинтересовало Рентгена. Он, правда, подозревал, что виновником порчи фотопластинок могло быть и видимое свечение стекла трубки в области анода. Чтобы развеять сомнения, работающую трубку следовало обернуть плотной черной бумагой.
Ученый начал экспериментировать. В его лаборатории, среди прочих подручных средств, появилась баночка с кристаллами платиносинеродистого бария и экран – бумажная ширма, пропитанная этим веществом. Обновка была неслучайной. Сам Рентген чуть позже объяснил ее: «Я искал невидимые лучи.… В Германии мы пользуемся этим экраном, чтобы найти невидимые лучи спектра, и я полагал, что платиносинеродистый барий окажется подходящей субстанцией, чтобы открыть невидимые лучи, которые могли бы исходить от трубки». Действительно, это вещество с труднопроизносимым названием светилось под действием катодных и ультрафиолетовых лучей, – значит, могло откликнуться и на действие неизвестного науке излучения.
Так и случилось 8 ноября 1895 года. В этот исторический день Рентген заметил свечение вышеупомянутых кристаллов и экрана, находившихся на значительном, около двух метров, удалении от работающей трубки. Причем свечение сохранялось и при оборачивании трубки черной бумагой, но всегда исчезало после ее отключения. Так ученый укрепился в мысли, что катодные лучи не виноваты в «вуалировании» фотоматериалов. И свечение стекла трубки в области анода тоже было не причем. Работа прибора сопровождалась испусканием нового вида излучения – невидимого и хорошо проникающего сквозь материалы! Именно оно заставляло светиться экран и затемняло фотоматериалы на удалении от источника – Рентген понял это первым среди всех ученых, заслужив всемирное признание. Остальные, как уже было сказано, объясняли наблюдаемые эффекты действием катодных лучей, которые просто не могли пройти такое расстояние в воздухе.
Ну и как забыть о силуэтах костей ладони, появившихся на ширме, когда исследователь случайно или намеренно поместил руку между ней и трубкой – на какие мысли навела его призрачная картина?
Многие физики прошли бы мимо – не заметили, не задумались, не придали должного значения, занялись более важными делами, – но не Рентген. Он, практически не выходя из лаборатории, за пятьдесят суток досконально исследовал свойства «Х-лучей» – на этом названии автор открытия настаивал особо. Отдавая дань скромности гения, мы называем обнаруженное им излучение рентгеновским.
22 февраля 1890 года американский физик Артур Уиллис Гудспид вместе со своим коллегой Дженнингсом занимался фотографированием искровых разрядов. По завершении работы Гудспид захотел показать коллеге имевшиеся в лаборатории разрядные трубки Крукса. Одну из них он даже включил, чтобы продемонстрировать свечение газа и стекла. Фотопластинки, конечно же, положили на стол недалеко от трубки. Позже Дженнингс проявил их и обнаружил пресловутое «вуалирование». Оно появилось даже на тех фотопластинках, которые не были использованы в этот вечер, а просто лежали на столе вместе с теми, что участвовали в опыте. А на одной из них вообще проявился отпечаток загадочного диска, совсем не похожий на обычные фотографические изображения. На самом деле это был один из первых рентгеновских снимков, сделанных еще до открытия Х-лучей! Как выяснилось позже, отпечаток дала монета. Но эти результаты по какой-то причине были забыты. Гудспид и Дженнингс вспомнили о них, только прочитав статью Рентгена. С сожалением ученые признали, что прошли мимо грандиозного открытия.
Пятидесятидневная исследовательская работа Рентгена прошла в атмосфере тайны. Во-первых, ученый хотел поработать один. Во-вторых, он не считал возможным сообщать что-либо коллегам, пока сам не уверился бы в истинности своих данных и заключений. 28 декабря 1895 года физик, наконец, решил, что обществу можно сообщить «О новом роде лучей» – так называлась статья, вызвавшая в начале января 1896 года настоящий газетный ажиотаж.
Конечно, этот шквал публикаций был связан не с масштабом открытия, а с таким свойством Х-лучей, как проникновение сквозь непрозрачные тела, и появившейся возможностью сфотографировать их внутреннее устройство. Множество фантазий измышлялось на этот счет, а некоторые даже планировали использовать излучение в сугубо хулиганских целях.
Сразу после открытия Х-лучей многие – особенно дамы – начали беспокоиться, что с их помощью можно… заглядывать под платье. Предприимчивые лондонские торговые фирмы тут же начали рекламировать нижнее белье, предохраняющее от проникновения лучей, или специальные шляпы с функцией защиты от чтения мыслей при помощи все того же излучения.
Американский изобретатель Томас Эдисон получил несколько театральных биноклей с просьбой снабдить их Х-лучами, чтобы видеть сквозь одежду. Кстати, опасения оказались небеспочвенными. Уже в наше время в аэропортах появились рентгеновские сканеры обратного рассеяния, на которых человек предстает практически голым. Был скандал.
Но, если говорить серьезно, что означало открытие Рентгена для человечества? За что в 1901 году ему дали первую в истории Нобелевскую премию по физике? Во-первых, уже в 1896 году в клиниках Санкт-Петербурга, Москвы, Вены, Парижа, Лондона были выполнены первые рентгеновские снимки. Начинался масштабный переворот в медицине, сделавший процесс диагностики менее мучительным, а ее результат – более точным. Во-вторых, наметились интересные варианты применения Х-лучей в науке и технике, за что также нужно благодарить Рентгена, его предшественников и последователей. Ну и, в-третьих (по порядку, а не по значению!), работа немецкого ученого в какой-то мере спровоцировала открытие явления радиоактивности, которое было сделано спустя всего три месяца после выхода в свет знаменитой статьи.
Плохая погода как повод научного открытия
Антуан Анри Беккерель (1852-1908) – имя в науке известное и даже легендарное. Именно ему выпала честь совершить открытие, вызвавшее поистине тектонический сдвиг в понимании мира.
А.А. Беккерель
На самом деле, Беккерель ни о чем таком и не помышлял. Он, как и многие физики, просто пытался «поймать волну», возникшую в науке после открытия Х-лучей.
Ох, как взбудоражился ученый мир после открытия Рентгена! Какой «вал» открытий новых излучений прокатился по науке, и как быстро затих из-за недоказуемости этих находок! Вот всего один пример из десятков подобных: N-лучи. Вполне основательный французский физик Рене Блондло в 1903 году провозгласил открытие новых лучей, по свойствам далеко превосходивших рентгеновские. У них была потрясающая способность – глаз, в который попадало это излучение, начинал лучше видеть в темноте. Ученые всего мира открыто смеялись над горе-исследователями N-лучей, но французы никак не унимались: сто статей по теме за полгода! Чтобы прекратить эту истерию, пришлось вмешаться американскому физику-экспериментатору Роберту Вуду, – причем весьма озорным способом. Он посетил лабораторию Блондло и напросился поучаствовать в опытах. «Хулиганить» Вуд начал практически сразу. Стоит ли описывать все его тайные – поскольку дело происходило практически в полной темноте – «издевательства» над профессором? Наверное, достаточно рассказать, как американец подменил большой плоский напильник деревянной линейкой. Как считалось, металлы испускали N-лучи, а дерево – никогда. Блондло утверждал, что может впотьмах различить стрелки слабо освещенных настенных часов, если держит над глазами большой плоский напильник. Вуд вызвался подержать инструмент, но благодаря темноте легко заменил его линейкой. Это не помешало отцу N-лучей увидеть стрелки – в противовес всем прошлым опытам. Свои наблюдения американский физик изложил в письме в журнал Nature, и вскоре публикации об N-лучах совсем исчезли.
Не стоит думать, что Беккерель старался найти какое-то суперновое излучение, «блуждая впотьмах» и уповая на благосклонность ее величества Случайности. Вовсе нет: его исследование было простым, логичным и основывалось на вполне продуманном предположении. Правда, гипотеза была чужая.
В конце января 1896 года Беккерель побывал на собрании Парижской Академии наук, где об открытии Х-лучей рассказывал Анри Пуанкаре (1854-1912), известный французский ученый. Он обратил внимание собравшихся на цитату из знаменитой статьи Рентгена: «…наиболее сильно светящееся место стенки разрядной трубки является также и главным исходным пунктом расходящихся во все стороны Х-лучей». И следом Пуанкаре выдал результат уже своих размышлений: а нет ли какой-то глубокой, фундаментальной связи между видимым свечением стекла и невидимым рентгеновским излучением? Может, и не нужна разрядная трубка? Ведь есть в природе примеры самопроизвольного свечения: светлячки, гнилушки, минералы… Никто же и не проверял; а вдруг они тоже являются источниками Х-лучей?
Беккерель поставил перед собой четкую задачу. Он знал, что после нахождения на солнце некоторые минералы начинали светиться в темноте – их-то и надо было испытать. Эксперимент казался подкупающе простым: завернутая в черную бумагу фотопластинка, на ней – минералы, а сверху – солнце. Если гипотеза была верна, если солнце заставляло минералы не только светиться, но и испускать невидимые Х-лучи, то пластинка потемнела бы, несмотря на то, что была обернута светонепроницаемой бумагой. Эти эффекты рентгеновского излучения – проникновение сквозь непрозрачные предметы и засветка фотоматериалов – были хорошо известны.
Сначала все шло как надо. Для своих опытов Беккерель взял соединение урана, которое обладало способностью достаточно ярко светиться после солнечной «зарядки» – и получил на фотопластинке темные пятна, напоминавшие по очертаниям куски урановой соли. Пришлось 24 февраля 1896 года выступить на собрании и подтвердить правоту Пуанкаре.
Выходило, что солнце провоцировало не только появление видимого свечения, но и генерировало Х-лучи. То, что соль урана испускала именно их, сомнений не вызывало: Беккерель уже пробовал класть между кристалликами соли и фотопластинкой металлические предметы. Они давали более светлый отпечаток по сравнению с окружающим фоном. Эта простая и важная проверка была продолжением экспериментов Рентгена, который показал, что изделия из металла хорошо заглушают Х-лучи. (Соответственно, и фотоэмульсия под действием «приглушенного» излучения темнеет в меньшей степени).
Еще чуть-чуть, и исследования пошли бы по неверному пути. Уверенность в том, что тестируемое соединение превращало энергию солнца и в видимый свет, и в рентгеновские лучи, была сильна как никогда. Сам Беккерель заявил об этом на собрании 24 февраля; но пообещал еще раз все проверить и, быть может, даже выяснить механизм чудесного явления.
Тут-то и вмешалась непогода. 26 февраля, как раз когда должна была начаться новая серия опытов, небо над Парижем нахмурилось. А без солнца – главного экспериментального «устройства» – работа теряла смысл. «Как мне избавиться от этой тоски по вам, солнечные дни?» – пела группа «Кино» спустя почти сто лет, но эта фраза вполне точно отражает душевное состояние Беккереля на излете зимы 1896 года. Он очень хотел продолжить, но пока пришлось убрать фотопластинки с разложенными на них кусочками урановой соли в стол.
1 марта пришла весна и – словно по мановению волшебной палочки – исчезли тучи. Ученый решил, что пора начинать – и так несколько дней уже было потеряно. Но все же «внутренний педант» в нем взял верх: следовало проверить, не случилось ли чего с фотопластинками, пока они лежали в ящике стола. Нет, он ничего особенного и не ожидал увидеть, но, проявив пластинки, поразился: на них были заметны силуэты кусочков соли урана!
Как же так, откуда отпечатки? Все это время в Париже было пасмурно, а в ящике – вообще темно! Но с фотопластинками не поспоришь, они надежно зафиксировали Х-лучи. Хотя, следовало перепроверить. Вдруг здесь чистая химия, и ничего более? Испарения урановой соли были вполне способны проникнуть сквозь черную бумагу и вызвать потемнение светочувствительного слоя. Беккерель положил стеклышко между солью и фотопластинкой, чтобы защитить ее от действия испарений, и – в темный ящик. Не помогло: отпечатки проявились. Листик алюминия – результат тот же. Соль урана в полной темноте постоянно испускала невидимое излучение, отправляя в нокаут блестящую мысль Пуанкаре. Всего через несколько дней после ее подтверждения!
2 марта пришлось сообщить эту новость коллегам, хотя у самого Беккереля далеко не на все вопросы были готовы ответы. И, тем не менее, открытие есть открытие: стоило заявить о себе и получить авторитетное мнение сообщества.
А затем – новые опыты.
Ученый догадался испытать разные соединения урана, даже и не светящиеся, – все они давали отпечатки. И металлический уран, небольшой образец которого любезно одолжил коллега Анри Муассан, – тоже оставлял свой след на фотопластинке. В общем, любые урановые соединения испускали невидимые лучи, причем это происходило постоянно, вне зависимости от внешних условий. И еще один интересный факт установил Беккерель: обнаруженное им излучение по свойствам отличалось от рентгеновского. Значит, можно было заявить об особых, урановых лучах, что ученый и сделал 23 ноября 1896 года на собрании все той же Академии. Но он пока не мог ответить, откуда лучи берутся. Солнечный свет точно не являлся их причиной; но, вполне вероятно, уран каким-то образом «высасывал» энергию из окружающей среды, а затем переизлучал ее… Теперь известно, что это предположение было ошибочным. Но поверить в то, что «неразрезаемый» атом урана справлялся своими силами и черпал энергию изнутри себя, пока не мог даже Беккерель. Нужно было еще поработать.
Да их тут целая куча!
Хорошо жить в будущем: Беккерель еще не понимает, что он обнаружил, а из нашего прекрасного далека уже понятно: в первый день весны 1896 года французский ученый открыл явление радиоактивности.
Историческая загадка.
В один из пасмурных дней внук, сын и отец физика случайно сделал великое открытие. Кто он? – Антуан Анри Беккерель.
Наверное, нужно кое-что пояснить. Пара слов о его родственниках точно не помешает.
Дед, Антуан Сезар. Летом 1835 года в Венеции по вечерам любовался красивейшим природным явлением – свечением вод Адриатического моря. Впечатления оказались незабываемыми. До самой старости он изучал загадочное – тогда еще загадочное – свечение разнообразных веществ и заразил этим интересом всю семью.
Отец, Александр Эдмонд. Занимался вопросами фотографии и подробно исследовал светящиеся вещества. Вместе с Антуаном Сезаром собрал обширную коллекцию фосфоресцирующих минералов. В ней были представлены и соединения урана.
Сам Антуан Анри. 1 марта 1896 года открыл явление радиоактивности при помощи фотопластинки и урановой соли, известной своим довольно ярким свечением после «зарядки» солнечными лучами. Конечно, суть открытия стала ясна не сразу, но разве это меняет дело?!
Его сын, Жан. Член Парижской Академии наук, исследователь электромагнитных волн.
Вот такая преемственность поколений. Разве удивительно, что Антуан Анри Беккерель «возился» с фотографическими пластинками и светящимися урановыми солями? Похоже, что вся история семьи вела его к знаменательному дню. Так что слово «случайно» из формулировки загадки, в принципе, можно и исключить.
Было открытие явления радиоактивности случайным или нет – вечный вопрос, который раз за разом поднимают историки науки. Что ж, большинство из них склоняются к такой формулировке: Беккерель был более других ученых готов «услышать шепот мироздания». И везение, и теоретическая подготовка, и экспериментальная строгость – все сплелось в тугую нить научного поиска, направлявшую Беккереля с самых первых дней работы к неожиданному озарению. Но в конце 1896 года эта нить, казалось, ослабла. На фоне популярности рентгеновского излучения, имевшего очевидное значение для медицины, урановые лучи потерялись – их просто некуда было пристроить. Опять же, никак не удавалось выяснить, из чего уран «черпал» энергию. В итоге, даже сам Беккерель занялся другими исследованиями; и кто знает, сколько еще времени понадобилось бы на поиски правильного объяснения природы урановых лучей, если бы не супруги Кюри.
Молодой физик Пьер Кюри (1859-1906) живо интересовался урановыми лучами и был частым гостем лаборатории Беккереля. По-видимому, радушный хозяин лаборатории и подтолкнул Пьера, неплохо разбиравшегося в химии, к исследованиям непонятного поведения урана. Вопрос Беккереля, пока еще не «раскусившего» природу открытых им лучей, мог звучать примерно так: «А нет ли в излучающих телах примесей, играющих особую роль»?
Конечно, эта загадка была по плечу только первоклассному химику-практику, способному найти и выделить даже микроскопические примеси. Пьер такой подготовкой похвастаться не мог, впрочем, в ней не было особой необходимости. Во-первых, он недавно женился на молодой польке Марии Склодовской, женщине с потрясающей химической интуицией. А во-вторых, его выдающийся опыт в физике оказался очень кстати при исследовании столь непонятного и тонкого явления, как урановые лучи. (Достаточно будет сказать, что Пьер Кюри вместе со старшим братом Жаком открыл пьезоэлектрический эффект и создал ряд весьма точных приборов на его основе).
Пьер и Мария Кюри
Неудивительно, что Пьеру удалось заинтересовать свою супругу темой урановых лучей. Вопрос, который с подачи мужа поставила перед собой Мария Склодовская-Кюри, звучал следующим образом: «Уран – единственный элемент, способный испускать невидимое излучение, или он не уникален»? Беккерель, очевидно, спрашивал не совсем об этом; да и не важно. Главное – таким был первый, интуитивный шаг Марии в деле поиска «особых примесей», которые она вместе с Пьером в итоге триумфально обнаружила.
Хотя, обо всем по порядку. Выявить источники урановых лучей можно было, только перебрав огромное число самых разных веществ. И еще – требовался прибор, реагирующий на невидимое излучение. Что сгодилось бы? Фотопластинки – безусловно, но с ними было слишком много возни. К счастью, нашелся другой вариант: как рентгеновские, так и урановые лучи электризовали воздух. Причем сила эффекта была прямо пропорциональна количеству урана.
Взяв за основу явление электризации воздуха, Пьер Кюри создал более совершенный прибор. Он представлял собой конденсатор с воздушной прослойкой между металлическими пластинами. Одна из них подключалась к источнику тока, а другая – к земле. Воздух, как хороший изолятор, держал систему разомкнутой. Но все менялось с появлением источника урановых лучей: воздух электризовался, становился проводником, цепь замыкалась, и по ней протекал ток. Его силу можно было измерить. Оставалось только приставить к прибору человека, который бы методично менял бесчисленные вещества, друг за другом нанося их тонким слоем на одну из пластин, и записывал показания – силу тока.
Этим человеком стала Мария Кюри. В весьма тяжелых – с точки зрения быта – условиях она провела гигантскую, многотрудную работу и получила потрясающие результаты! Исследовав множество соединений урана, Мария подтвердила его вину в испускании загадочных лучей. Что ж, это была не новость, это ожидалось. Удивительное произошло, когда она испытывала другие вещества: прибор отреагировал на соединения тория. Уникальность урана рухнула в одночасье: торий испускал ровно такие же лучи. Это означало – для пытливых умов, конечно, – что в природе могли существовать и другие элементы с подобными свойствами. Мария Кюри предложит называть их радиоактивными и сама откроет «королевский забег» в поисках таких элементов.
Дело в том, что по результатам ее измерений два минерала урана – смоляная обманка и хальколит – оказались гораздо более радиоактивными, чем металлический уран той же массы. Но это невозможно! Уран – источник лучей, в металлической форме его содержание максимально, и, значит, ни одно из соединений урана не должно превосходить чистый металл по активности. Скорее всего, прибор ошибался. Но «неудобные» результаты раз за разом повторялись, и Марии пришлось сделать одно крайне маловероятное предположение: показания «завышал» новый, очень радиоактивный элемент, содержавшийся в образцах в микроскопических количествах!
Гипотеза смелая, если не сказать больше. Как можно было ее проверить? Для начала следовало приготовить из чистого урана искусственный хальколит, сымитировав состав природного минерала. По логике в нем не было бы предполагаемого нового элемента, что сказалось бы на активности. Мария выполнила необходимые операции и поняла, что права: искусственный хальколит не давал в приборе такого всплеска тока, как реальный минерал. А это означало, что в природных минералах «сидел» совершенно новый, науке не известный элемент, и его надо было оттуда достать! Вот где в полной мере мог проявить себя химический гений Марии Кюри.
Кроме того, она теперь трудилась бок о бок с мужем, благодаря чему работа подвигалась быстрее. В результате множества химических операций – растворения и получения осадков – из смоляной обманки удалось выделить радиоактивный элемент, по свойствам очень похожий на висмут. Точнее, выделили висмут, который почему-то испускал лучи, хотя раньше за ним этого не водилось. Пришлось предположить, что радиоактивность принадлежит не висмуту, а химически схожему с ним новому элементу, который так надеялась найти Мария. Его назвали полонием в честь Польши, исторической родины Склодовской.
Но и на этом сюрпризы не закончились: в смоляной обманке была обнаружена еще одна радиоактивная примесь, теперь похожий на барий. Пока только высокая активность и еле заметная линия в спектре говорили о том, что супруги Кюри открыли очередной элемент. Но их уверенность была столь высока, что Мария и Пьер сразу назвали его радием, «лучистым» (от лат. radius – луч).
Радий стал первым орудием ядерной медицины.
Однажды Беккерель решил показать на конференции, как под действием излучения радия светятся некоторые вещества – что-то наподобие знаменитого опыта Рентгена. Получив у супругов Кюри пробирку с очень небольшим количеством радиоактивного элемента, докладчик положил ее в карман жилета и носил так до открытия конференции. Опыт удался, коллеги пребывали в восхищении, а экран светился даже когда ученый стоял к нему спиной – лучи радия пробивали тело насквозь.
Беккерель уже и забыл об этой пробирке. Однако спустя десять дней кожа в том месте, где она лежала, покраснела. А потом появилась весьма неприятная язва.
Посетив Пьера Кюри, первооткрыватель явления радиоактивности произнес знаменитые слова: «Я очень люблю радий, но я на него в обиде». Пьера уже испытавшего действие излучения на себе, он не удивил.
Удивляло другое. Как оказалось, «сжигая» кожу, радий лечил рак, волчанку и другие кожные заболевания. Появился новый вид лечения – кюри-терапия. Радий приобрел невероятную популярность, его считали «эликсиром жизни»! Это сыграло дурную шутку с обществом: в первой половине прошлого столетия огромной популярностью пользовались содержащие радий зубная паста, кремы, губная помада, таблетки, питьевая вода, хлеб, сигареты.
На нем спали, его ели, пили, им лечились от насморка.
Надо сказать, зря.

Радий и полоний были открыты в 1898 году. Сегодня это – бесспорный факт, но в то время открытие засчитывалось только после предъявления «товара лицом». Перед супругами Кюри стояла непростая задача – выделить хотя бы один из элементов в осязаемом количестве. Но как это было сделать? Покупка минералов урана для Марии и Пьера оказалась неподъемной задачей. Тем более непопулярный уран добывали разве что на шахтах Йоахимстали (на территории современной Чехии) с целью производства красок для стекла и фарфора. Но супругов Кюри не так просто было сбить с намеченного пути: они догадались, что радий и полоний вполне можно извлечь из отходов производства урана. Несколько тонн купили практически за бесценок. А затем четыре года (!) скрупулезно перерабатывали эти отходы в ужасных условиях, в сарае с текущей крышей. И на выходе их ожидала всего одна десятая грамма хлорида радия! Но это – уже доказательство, и счастье Кюри было трудно измерить.
Тем более что их способ поиска новых элементов – по радиоактивности – оправдал себя и помог уже другим ученым сделать себе имя в химии.
Тем более что радий произвел переворот в медицине, позволив успешно излечивать злокачественные заболевания кожи.
Тем более что за исследование явления радиоактивности им – совместно с Беккерелем – была присуждена Нобелевская премия по физике (1903); а в 1911 году, уже после трагической гибели мужа, Марию наградили еще и Нобелевской премией по химии – за те самые «мучения в сарае», за открытие и изучение радия.
Но самое главное – в науке начиналась революция, какой не было уже пару столетий. И труды Беккереля, супругов Кюри, равно как и многих других выдающихся ученых, стали ее флагом и гимном.
Богатый внутренний мир
Что это была за революция? Ее «бренды» и сейчас на слуху: теория относительности, квантовая механика… Появившись, они здорово «побеспокоили» классическую физику, указав границы ее применимости, за которыми начинались совершенно непредставимые вещи. Уютный мир, так удачно описанный уравнениями ньютоновской механики, вне пределов человеческого восприятия оказался загадочным и размытым.
К примеру, Эйнштейн углядел в своих уравнениях эффект замедления времени движущихся объектов. Это явление вошло в популярную историю науки под именем «парадокса близнецов» со следующей формулировкой: путешественник, отправившийся в космическую одиссею на околосветовых скоростях, вернется на Землю заметно моложе своего брата-близнеца, не рискнувшего покинуть насиженное местечко. Удивительное заключение, но тем интереснее, что оно подтвердилось экспериментом: его проверили на ускорителях элементарных частиц.
Создатели квантовой механики тоже особо не церемонились с устоями классической физики: они прямо заявили, что в микромире царствует вероятность, неопределенность, и с привычными человеческими представлениями туда соваться не стоит. Знаменитый датский физик Нильс Бор иронично высказался по этому поводу: «Если тебя квантовая физика не испугала, значит, ты в ней ничего не понял». Поразительно, но в этом отношении современный человек почти и не продвинулся. Конечно, наука обогатилась сложными терминами и формулами, но понимаем ли мы микромир во всем его многообразии? Вряд ли, и это показывает следующий пример. В обычной жизни можно точно узнать, где в определенный момент времени находился, скажем, автомобиль и как быстро он двигался: некоторым эту информацию доставляют по почте с требованием уплаты штрафа за превышение. Но невозможно – принципиально нельзя! – одновременно определить точное местоположение и скорость, например, электрона. Почему? Потому что так устроен мир, и все тут.
Стоп. Даже если абстрагироваться от взрывающих мозг квантовых загадок, можно заметить в двух предыдущих абзацах отсылку к каким-то элементарным частицам, электрону… Кажется, время, о котором идет речь, таких тонких материй не знало? Атомы по-прежнему считались «неразрезамыми» шариками, так?
Не совсем. В 1897 году, как раз между открытием явления радиоактивности и радия с полонием, английский физик Джон Джозеф Томсон (1856-1940) выяснил-таки природу катодных лучей, обитающих в разрядной трубке. Изучая их отклонение магнитным и электрическим полем, ученый сделал далеко идущие выводы. Во-первых, лучи оказались гораздо медленнее света, а значит, являли собой вовсе не электромагнитные волны, а самые что ни на есть материальные частицы. Это был поток частиц, которые – уже во-вторых – несли отрицательный заряд. В-третьих, они весили гораздо меньше самого легкого атома – водорода. И еще интереснее: каким бы ни был материал катода, он всегда испускал одни и те же частицы.
Что со всем этим богатством данных оставалось делать честному ученому? Пришлось отодвинуть в сторону стереотипы и признать открытие новых – в дополнение к атомам – «кирпичиков» вещества, хотя они и нарушали устоявшиеся представления. Стоит напомнить, что наука того времени считала атомы мельчайшими составляющими вещества, мельче некуда. И еще: как было известно, атомы не обладали электрическим зарядом. Томсону оказалось довольно сложно «пристроить» обнаруженные в катодных лучах «корпускулы» – так он предложил их называть. Но, как говорится, вариантов у физика было немного: запредельно легкие материальные частицы с отрицательным электрическим зарядом могли появляться только… изнутри атома. Чуть позже (1904) Томсон даже предложил «пудинговую модель атома», где открытые им частицы находились внутри положительно заряженного облака. Это было очень похоже на пудинг с изюмом, только томсоновские «корпускулы» могли свободно вращаться по орбитам, а не торчали на месте подобно изюминкам. Но это уточнение мало кого останавливало от забавного сравнения с традиционным британским десертом. Ах да, еще одна вещь: название «корпускула» так и не прижилось. Сейчас их называют электронами.
Древние греки были заядлыми экспериментаторами. Например, им доставляло удовольствие натирать кусочки янтаря шерстью и смотреть, как к ним – после этой процедуры – притягивается пыль и мелкие предметы. Техногенное электричество, что ни говори… Ах да, нужно пояснить причину столь неожиданного экскурса в историю. Дело в том, что слово, обозначающее янтарь, у древних греков звучало очень знакомо: электрон.
Так в 1897 году был разрушен застарелый миф о «неразрезаемости», неделимости атомов. У них обнаружилось внутреннее строение, правда, весьма – до поры, до времени! – бедное. Но важным было другое – стало можно и даже модно размышлять над устройством атома, проводить уточняющие эксперименты… И это вызвало нужный эффект: открытия посыпались как из рога изобилия. Что интересно, важнейшие из них так или иначе связаны с именем Эрнеста Резерфорда (1871-1927).
Э. Резерфорд
Этот английский физик вошел в летопись современной науки как «отец ядерной физики» и ни на йоту меньше. Список его открытий не позволяет усомниться в реальном величии гения Резерфорда. Можно назвать лишь основные его достижения, и этого будет вполне достаточно: обнаружение неоднородности урановых лучей, радиоактивных превращений, формулирование закона радиоактивного распада, планетарной модели атома, осуществление первой в истории искусственной ядерной реакции!
Занявшись лучами Беккереля, молодой физик очень скоро выявил их сложный состав (1899). Как оказалось, лучи, испускаемые ураном, представляли собой смесь двух различных потоков излучения. Первый сильно поглощался веществом и распространялся лишь на очень короткие расстояния; Резерфорд предложил назвать его альфа-излучением. В противовес ему второй поток, предсказуемо наименованный бета-излучением, был способен проникать сквозь сравнительно толстые листки алюминиевой фольги.
Интересно, что Резерфорд «проглядел» третью составляющую – гамма-излучение, которое еще слабее задерживалось веществом. Но зато он разрешил загадку альфа-лучей, «раскусив» в них ионы гелия (1907)! А с бета-лучами «подсобил» уже известный Антуан Анри Беккерель, доказав их полное сходство с электронами. Ну и, напоследок, выяснилось, что гамма-лучи являются «родней» обычного света, только с очень высокой энергией.
Сложность состава урановых лучей обнаружили, в том числе, и при помощи мощного магнита. В магнитном поле они разделялись на три потока, которые Резерфорд предложил «закодировать» первыми буквами греческого алфавита. Сегодня эта картинка – три расходящихся луча – может использоваться как символ причастности к ядерным технологиям и радиационной безопасности. Их можно найти, к примеру, на эмблеме войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Наверное, так были забиты последние гвозди в крышку гроба «неразрезаемого» атома. Ведь Беккерель и Кюри установили, что радиоактивность – это свойство атомов, а значит, испускание радиации было исключительно их прерогативой. И как, спрашивается, вроде бы неделимый атом умудрялся выбрасывать из себя электроны и ионы гелия?!
Этой проблемой – закрыв глаза на существующие представления – и занялся Резерфорд. Проведя множество экспериментов вместе со своим коллегой Фредериком Содди, он, наконец, решился высказать радикально новую идею. Если большинство ученых все еще исповедовали принцип неизменного атома, то Резерфорд и Содди громко заявили (1902): радиоактивность – это спонтанное превращение одних атомов в другие, сопровождающееся испусканием радиации! Грубо говоря, свинец мог сам по себе превращаться в золото; алхимики позавидовали бы.
Нельзя было не погрузиться в изучение столь многообещающего явления. Подумать только, какие перспективы сулила разгадка его механизмов! Традиционная для науки последовательность – открытие, исследование, понимание, использование – вполне могла сработать. Но для начала стоило выяснить, не подчиняются ли атомные превращения какому-либо простому правилу. Удивительно, насколько быстро это правило было открыто упомянутыми соавторами: уже в 1903 году они опубликовали «закон радиоактивного изменения». Число радиоактивных атомов уменьшается со временем по экспоненте – кривой линии, резко уходящей вниз, а потом постепенно замедляющей свое падение. Эта довольно простая и очень важная истина легла в основу науки о радиоактивных превращениях.
Закон – законом, но ученые нуждались в более глубоком понимании происходящих процессов. Иными словами, они стремились узнать, как устроен атом. Нужно было подтвердить «пудинговую модель» Томсона или опровергнуть ее, предложив что-то новое. Главное – чтобы это было сделано не умозрительно, а на основе экспериментальных данных. Неудивительно, что за такую работу принялся, среди прочих, и Резерфорд с сотрудниками. Неудивительно, что они преуспели.
На самом деле, речь идет о знаменитых экспериментах Гейгера-Марсдена, но отсутствие фамилии их руководителя не должно вводить в заблуждение: в скобках обычно пишут «опыты Резерфорда с золотой фольгой». Итак, первый компонент – золотая фольга. Этот драгоценный металл выбрали из-за его пластичности: хорошо потянув за края листика, можно было получить сколь угодно тонкую пленку. Вторая важная составляющая эксперимента – источник альфа-частиц. К ним Резерфорд испытывал особые чувства, как первооткрыватель. Кстати, радий, открытый супругами Кюри, оказался превосходным источником этих частиц – достаточно массивных и быстрых, чтобы проникнуть сквозь тонкую фольгу. И третий элемент – экран, реагирующий на попадание альфа-частицы микроскопической вспышкой света; естественно, к нему полагался микроскоп и кромешная тьма, иначе ничего разглядеть не удавалось.
Самое интересное – как работал этот набор «юного ядерщика». Пучок альфа-частиц направляли на очень тонкую фольгу из золота, позади которой находился экран. Идея была простой и понятной: если атомы золота имели томсоновское устройство, то сквозь этот «пудинг» быстрые массивные частицы «прорывались» бы без особых проблем, едва отклоняясь от первоначального пути. Тогда вспышки на экране повторяли бы контуры исходного пучка, как будто на его пути и в помине не было пленки из золота. Но в опытах обнаружилось совершенно иное: проходя сквозь фольгу, частицы рассеивались, некоторые сильно уклонялись в сторону, а единицы даже возвращались назад – к источнику! Согласно расчетам, «пудинг с изюмом» такой вольности им позволить не мог. По всей видимости, в центре каждого атома «торчало» тяжелое ядро, о которое рикошетили альфа-частицы. Размер его – значительно меньше атома, иначе фольга была бы непроницаема для частиц: они все отлетали бы назад. А электроны? Они, вероятно, вращались вокруг ядра, как планеты вокруг Солнца. Совсем не похоже на пудинг…

Отскок альфа-частиц от золотой фольги, их возврат к источнику очень удивлял Резерфорда. Он сравнивал это явление со снарядом, срикошетившим о листок бумаги и нанесшим удар стрелку.
И еще одна аналогия от великого ученого, обладавшего хорошим чувством юмора: случай на таможне. Соответствующие службы одной южноафриканской страны узнали о планах контрабанды оружия в тюках с хлопком. Как узнать, где оно спрятано? Вскрывать все связки – слишком долго. Наудачу один из таможенников придумал простой выход: пришел на склад и начал стрелять по тюкам. Пули «прошивали» хлопок, но рикошетили от металлического оружия. Совсем как альфа-частицы от плотного компактного ядра.
Резерфорду, ученику Томсона, было непросто пойти против представлений своего учителя. Тем не менее, в 1911 году он предложил планетарную модель атома: электроны вращаются вокруг компактного тяжелого ядра. Этой моделью – после серьезных доработок – физики пользуются и сегодня. Во всяком случае, она позволяет человеку хотя бы отдаленно представить себе атом.
Планетарная модель вполне удовлетворяла ученых, несмотря на то, что в ней появилась следующая «неразрезаемая» загадка: ядро. Массивное и – как доказал Резерфорд – положительно заряженное, оно не давало ученым нормально выспаться. Опять возникла проблема: шаг вглубь материи закончился встречей с новым неделимым шариком. Может показаться удивительным, но Резерфорд смог пролить свет и на эту тайну.
Он, как и ранее, работал со своими любимыми альфа-частицами. Безусловно, речь шла не о какой-то неразумной привязанности: во-первых, выбор был невелик (альфа-, бета- и гамма-). Во-вторых, альфа-частицы наиболее заметно и измеримо взаимодействовали с веществом. В-третьих, с ними Резерфорд достиг выдающихся результатов и надеялся «раскопать эту золотую жилу до конца». Можно прямо сказать, что с помощью чудесной «отмычки» ученый планировал «взломать» атом.
И ему снова улыбнулась удача. В экспериментах по облучению альфа-частицами простых веществ – газов – были получены фантастические результаты. Когда любимые частицы Резерфорда пронизывали газообразный азот, из него вылетали весьма быстрые ядра водорода. Не неучтенная примесь, а вновь образовавшееся вещество! По-видимому, альфа-частица, попав в ядро азота, на мгновение сливалась с ним, образуя неустойчивую структуру, которая быстро распадалась на ядра кислорода и водорода. Так, не вполне намеренно, в 1917 году Резерфорд осуществил первую в истории искусственную ядерную реакцию, хотя публикация статьи с результатами эксперимента относится уже к 1919 году – два года ушло на раздумья и проверки.
Это достижение заставило его задуматься над сложным строением ядра. Раз из азота альфа-частицы выбивали водород, легчайший из известных элементов, то, может быть, в нем и крылась разгадка? Тем более, идея о том, что все атомы составлены из разного числа атомов водорода, была высказана еще в далеком 1815 году (гипотеза Праута). Она была ошибочной, но повлияла на мышление Резерфорда. Физик провел еще несколько опытов по облучению легких элементов альфа-частицами, и во многих случаях наблюдал следы ядер водорода. Значит, они были строительным материалом, «кирпичиками» всех ядер! Конечно, ядрам водорода, учитывая их особенную роль, следовало дать отдельное имя: в 1920 году Резерфорд предложил термин «протон», по-гречески – «первый». На том и порешили.
История сохранила и такие факты из жизни молодого Эрнеста Резерфорда, которые могут вызвать улыбку у нынешних школьников.
Уроженец Новой Зеландии, он недолго преподавал в средней школе города Крайстчерч. На его уроках физики почти всегда было шумно: учитель увлекался и уходил в такие дебри, в которые путь школьникам был заказан – не хватало подготовки. Логично, что они начинали шуметь; интересно, что поглощенный своим предметом Резерфорд далеко не всегда замечал беспорядок, творящийся в классе. Но если он отвлекался, то несколько зачинщиков все же изгонялись из комнаты. Наказание, впрочем, было не слишком страшным: как только педагог снова погружался в физику, ученики потихоньку – и без последствий – возвращались в класс.
Казалось, атом был полностью укомплектован: в центре разместилось положительно заряженное ядро, составленное из протонов, а вокруг него – в пустом пространстве – по орбитам «летали» электроны. Но чувство незавершенности картины все же оставалось. Сам Резерфорд в 1921 году предположил, что в ядре есть еще один сорт частиц – некий гибрид электрона и протона, не имеющий заряда. Это блестящее предположение подтвердилось лишь в 1932 году – английский физик Джеймс Чедвик (1891-1974), анализируя результаты экспериментов Боте-Беккера, открыл нейтрон – массивную частицу с нулевым электрическим зарядом.
Кстати, и здесь не обошлось без альфа-частиц: в опытах они выбивали из бериллия и лития загадочное излучение с большой проникающей способностью. Правда, сначала его спутали с гамма-лучами, которые тоже плохо поглощались веществом, но Чедвик математически опроверг это заключение. Он доказал, что экспериментаторам удалось выбить из ядер совершенно новые частицы, которые так долго искали ученые. Иными словами, нейтрон был открыт не столько опытным путем, сколько «на кончике пера».
Теперь комплект был полным. Спустя несколько месяцев после открытия Чедвика немецкий физик Вернер Карл Гейзенберг (1901-1976) и – раньше него! – советский физик Дмитрий Дмитриевич Иваненко (1904-1994) предложили свои протонно-нейтронные модели ядра.
О, наконец-то, наши люди! Да, действительно: с самого начала повествование о великих открытиях атомной эпохи вращалось вокруг немецких, французских и английских ученых. А как обстояли дела у нас в России, в СССР? Это важный вопрос, и ради ответа на него стоит вновь вернуться в 1896 год – пусть это будет небольшой, но важной передышкой перед знакомством с валом открытий и изобретений, напрямую порожденных обнаружением нейтрона.
А как дела у нас?
К сожалению, громкие открытия начала ХХ века обошли российскую науку стороной. Но это вовсе не обозначает, что она была в упадке и вообще ничего путного произвести не могла. Думать так – непростительная ошибка. Стоит напомнить хотя бы о великом Менделееве, который еще в 1869 году открыл Периодический закон. Для простоты его можно сформулировать так: свойства химических элементов зависят от массы атома и периодически повторяются с ее ростом. Эта универсальная закономерность, получившая известность в форме таблицы Менделеева, без преувеличения, задала направление развития науки на многие десятилетия вперед. Благодаря ей ученые начали задумываться о «разрезаемости» пресловутых шариков, об их внутреннем строении, которое и порождало столь стройную, гармоничную последовательность. В конце концов, пришли к тому, что химические свойства атома определяются зарядом его ядра и строением электронной оболочки. Но эти теории появились уже после блестящих трудов Резерфорда и коллег; а интуиция Менделеева сработала почти на полвека раньше. Так что, наш великий соотечественник предвосхитил начало атомной эпохи, – и об этом не следует забывать.
Да и в дальнейшем наши ученые и инженеры находились на переднем крае науки. Вот простой пример и, заодно, интересный факт: месяца не прошло с момента публикации статьи Рентгена о новых лучах, а изобретатель радио Александр Степанович Попов в Кронштадте уже получил первые рентгеновские снимки. И эта технология в нашей стране, что называется, «пошла». К примеру, во время Цусимского сражения (1905) на борту крейсера «Аврора» раненых – впервые в условиях морского боя – обследовали на рентгенологической установке. И первый в мире государственный институт рентгенологии и радиологии тоже открылся у нас, в еще не «остывшем» после революции Петрограде (1918).
Здесь же, в культурной столице России были заложены основы отечественной науки о радиоактивных веществах. В 1910 году в стенах Императорской Санкт-Петербургской академии наук прозвучали провидческие слова выдающегося российского ученого Владимира Ивановича Вернадского (1863-1945). Он говорил о деле государственной важности – поиске запасов радия. Этот металл, по мнению Вернадского, обладал значительно большим могуществом, нежели золото, земля и деньги. Да и другие радиоактивные элементы могли бы оказать неоценимую помощь медикам, агрономам, ученым…
К счастью, доклад оказался убедительным, появилось финансирование, и осенью 1911 года в Петербурге была организована Радиевая лаборатория Академии наук. Но откуда ей было брать материал для работы? Образцы минералов из районов Кавказа, Средней Азии, Урала, Сибири, Забайкалья – множества уголков нашей необъятной страны – доставляла специально созданная в 1912 году Радиевая экспедиция. А заодно – с прицелом на промышленное производство радия – организовали пробный завод в Татарстане.
Кроме того, в уже упомянутом государственном институте рентгенологии и радиологии тоже шли работы по радию, действовало специальное исследовательское отделение. Такая раздробленность, скорее, вредила общему делу. Вернадский лелеял мечту о слиянии всех «кусочков» в единый государственный Радиевый институт, и в 1922 году она сбылась. Владимир Иванович сам возглавил новую организацию, а заместителем взял Виталия Григорьевича Хлопина (1890-1950), человека, получившего первые отечественные препараты радия.
ЛИЧНОСТЬ: ВИТАЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ХЛОПИН (1890-1950)
Этот человек не слишком известен широкой публике, а жаль. Звание одного из основоположников отечественной радиохимии им более чем заслужено. Сверх того, выдающиеся способности Хлопина как экспериментатора, теоретика, технолога, педагога, общественного деятеля проявлялись в самых разных сферах науки и жизни. В качестве примера можно привести его первую научную работу: атмосферный воздух и ультрафиолетовые лучи. Молодой исследователь доказал, что при облучении воздуха солнечным ультрафиолетом в нем образуются не только перекись водорода и озон, но и оксиды азота. Это заявление было настолько революционным, что вызвало среди химиков ожесточенные споры. Подтверждение нашлось лишь спустя двадцать лет.
Блестяще окончив Петербургский университет (1912), Виталий Григорьевич заслужил право остаться на кафедре общей химии и готовился стать профессором. Возможно, его судьба сложилась бы иначе – более спокойно, но началась Первая мировая война (1914). В такие периоды любое государство остро нуждается в дополнительных ресурсах – и кто ему поможет, кроме ученых? По призыву В.И. Вернадского многие крупные специалисты объединились в легендарную Комиссию по изучению естественных производительных сил России (КЕПС). Хлопин активно участвовал в организуемых КЕПС экспедициях в поисках новых залежей и источников минерального сырья. Вероятно, в эти годы и возник его интерес к химии радиоактивных веществ, и в первую очередь, – к радию.
В 1918 году молодой ученый получает чрезвычайно важное и сложное задание – организовать первый в России радиевый завод. Важность предприятию придавал нескрываемый интерес военных, узнавших о светящихся составах на основе радия. К примеру, шкалы приборов, покрытые такими составами, было прекрасно видно ночью – безо всяких батареек и лампочек. Это повышало скрытность военной техники.
Всю сложность поставленной задачи в свое время осознали еще супруги Кюри. Да и сам Хлопин писал, что наше русское сырье – из Ферганской долины – бедное настолько, что для получения одного грамма радия придется переработать от десяти до двухсот тонн руды! И все же это было сделано; и даже воспето Маяковским с присущей ему иронией:
«Поэзия – та же добыча радия: в грамм добыча, в год труды. Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды». Но сначала Виталий Григорьевич лично потрудился над получением первых образцов радия (1921). Символично, что эту работу приходилось выполнять на примитивном оборудовании, в нетопленых лабораториях, а иногда дома – на печке-«буржуйке». Сразу вспоминается Мария Кюри и ее работа в продуваемом всеми ветрами сарайчике с текущей крышей. Но выдающегося химика бытовые трудности не останавливали: по воспоминаниям близких, на протяжении всей жизни он отличался чрезвычайной скромностью личных потребностей.
В 1922 году Хлопин принял участие в создании Радиевого института и стал заместителем директора (Вернадского); а в 1939 году – возглавил эту организацию. Направления исследований, проводимых им и под его руководством, были столь разнообразны, что их трудно перечислить. Если кратко, в Радиевом институте были созданы базовые технологии для работы с исчезающе малыми количествами веществ – радиоактивных веществ. По сути, это были методики «поиска иголки в стоге сена», сложные и наукоемкие. Они очень пригодились впоследствии, при разработке первой отечественной технологии получения плутония – начинки ядерной бомбы – из облученного урана. Хлопин руководил и этим проектом.
Вклад Виталия Григорьевича в общее дело был так высоко оценен коллегами и руководством страны, что сразу после его смерти в названии Радиевого института появилось уточнение «имени В.Г. Хлопина». Хочется надеяться, что навсегда.
Что еще можно добавить к сказанному о выдающемся ученом? Наверное, пару слов о нем, как о человеке. Хлопин был интересной, многогранной личностью. В редкие часы отдыха близкие и коллеги обнаруживали, что Виталий Григорьевич хорошо поет и танцует. Приятным басом он исполнял среди прочих и особо любимые вещи: арию Варяжского гостя из оперы «Садко», песню водовоза из кинофильма «Волга-Волга»... А нескрываемое удовольствие, которое он испытывал от участия в самодеятельности и «капустниках», думается, объединяло его с коллегами не меньше, чем совместная работа.
Производство радия напрямую зависело от доступа к залежам урановых руд. Проблема состояла в том, что в начале ХХ века уран был практически не нужен промышленности, а слава радия только разгоралась. Неудивительно, что единственным на тот момент предприятием по добыче урана был Тюя-Муюнский радиевый рудник в Ферганской долине – на территории современной Киргизии. Поэтому технологию извлечения радия на пробном заводе в деревне Бондюга (сейчас – Менделеевск, Татарстан) пришлось подстроить под сложный состав тюя-муюнских руд. Процедура доставки руды из шахты на завод тоже не отличалась простотой: сначала на бричках, потом по железной дороге и, наконец, на баржах.
Может возникнуть вопрос: к чему такие трудности? И правда, что мешало выделять радий прямо около рудника? Ответ прост: Ферганскую долину наводнили басмачи – этакие исламские партизаны, объявившие кровавую войну большевикам. Строить важное производство в таких местах не стоило. А в спокойной Бондюге, кроме того, уже давно эксплуатировалось химическое производство, следовательно, было необходимое оборудование, свободные помещения и опытный персонал. Это значительно облегчило создание пробного радиевого завода.
Опытный завод проработал до 1925 года, выпуская до полутора граммов радия в год. Затем производство редкого металла из тюя-муюнской руды переместилось в Москву, на завод «Редэлем». А вот в районе Ухты, в поселке Водный запустили предприятие по извлечению радия из весьма неожиданного сырья – подземных минерализованных вод. Аналога этому промыслу в мире не было, и нет: зарубежные специалисты просто не брались за такие сложные проекты. Действительно, для получения одного грамма радия нужно было переработать или несколько тонн богатой урановой руды, или… несколько сотен тысяч тонн соленой воды. «Западники» выбрали первый вариант; наши ученые и инженеры решили гораздо более трудную задачу. «Водный промысел» продолжался двадцать пять лет (1931-1956), и в 1950-х годах был одним из крупнейших на планете по выпуску радия.
РАДИЙ – очень редкий металл: в земной коре его в тысячи и десятки тысяч раз меньше, чем золота.
За все время в мире было добыто всего около трех килограммов радия.
В середине 1910-х годов один грамм радия по цене приближался к ста шестидесяти килограммам золота!
Как уже упоминалось, в начале прошлого века интерес к радию был столь велик, что его добавляли в напитки, косметические средства и удобрения. К счастью, в малых количествах. «Новая энергия для вас, уничтожает бактерии в полости рта» – это из рекламы радиоактивной зубной пасты Doramad (Германия).
В атомной физике дела шли не так успешно: попасть на гребень «волны» нашим ученым не удавалось до 1930-х годов. Но знаменитый ленинградский Физтех постепенно набирал силу. Здесь, под руководством академика Абрама Федоровича Иоффе (1880-1960) концентрировались лучшие кадры отечественной науки. Тот же Дмитрий Иваненко, первым предложивший протонно-нейтронную модель ядра, совершил прорыв поистине резерфордовского уровня. Его работа вкупе с теорией альфа-распада, предложенной молодым физтеховцем Георгием Гамовым, рывком подняли советскую физику до мирового уровня. Сам Иоффе, усмотревший в открытии нейтрона начало новой эпохи, организовал в институте лабораторию по изучению атомного ядра. Ее возглавил молодой Курчатов… хотя об этом позже.
Вот так обстояли дела. Конечно, кому-то перечисленные достижения могут показаться недостаточными, неощутимыми. Что ж, стоит напомнить, что в упомянутый период времени наша страна пережила две разрушительные войны – мировую и гражданскую – и три революции. Подумать только: полыхала гражданская война, а в голодном и холодном Петрограде создали институт рентгенологии и радиологии. Сразу после октябрьской революции – развернули работы по радию. Необходимую руду добывали под постоянной угрозой налетов басмачей, которые с большевиками особо не церемонились – просто убивали. Страна была измождена, но наука и промышленность, как могли, двигались вперед. И это нельзя недооценивать.
Тихий лазутчик
Что ж, отдав должное отечественной истории, можно вновь вернуться в 1932 год, к открытию нейтрона. Такое внимание к нему неслучайно. Обнаружение нейтрона разрушило последние преграды на пути к овладению атомной энергией.
Конечно, Чедвик даже не догадывался, что нашел ключ от сокровищницы. Да и другие ученые еще ничего не подозревали. Нейтроны быстренько «пристроили» в модель атомного ядра, принеся большое облегчение теоретикам. Затем задумались над «алхимическими» возможностями этих массивных незаряженных частиц. Ведь удалось же Резерфорду с помощью открытых им альфа-частиц превратить азот в кислород. Что ни говори, это была первая в истории искусственная ядерная реакция! Другой пример: первый в истории искусственный радиоактивный изотоп получили, «обстреляв» ядра алюминия теми же альфа-частицами (1934). А с помощью протонов расщепили ядра лития. Чем же нейтроны были хуже?
Да ничем. Более того, им вообще не оказалось равных! Нетрудно понять, почему. Положительно заряженным протонам и альфа-частицам сложно «пробраться» в положительно заряженное ядро из-за электрического отталкивания. Их эффективность в деле «вызывания» ядерных реакций – удручающе низкая. Для нейтронов, заряд которых нулевой, подобных проблем просто не существует: образно выражаясь, фейсконтроль клуба «Ядро» пропускает их без вопросов. А альфа-частицы и протоны ядрами «отфутболиваются»; лишь самым проворным из них удается «протиснуться» внутрь.
Ученые будто бы очутились на Клондайке: сколько новых возможностей появилось! Надо ли говорить, что нейтронами пробовали облучать ядра всех известных элементов. Досталось, среди прочих, и урану.
Выбор урана в качестве мишени для бомбардировки был более чем оправдан. Из всех известных на тот момент элементов он оказался самым массивным. Ученым же хотелось еще больше утяжелить ядро дополнительными нейтронами. Вполне могли получиться новые, «заурановые» элементы. И действительно, так был открыт нептуний.
Но от исследователей прятался гораздо более важный процесс, которому долгое время удавалось маскироваться за роем излучений, идущих от «обстрелянного» урана. Наверное, сказывался еще и эффект «отвода глаз»: зачастую человек не замечает то, чего не ожидает увидеть, даже если предмет находится прямо под носом. Надо признать, что ученые – тоже люди, и иногда грешат стереотипным мышлением. Обновленная физика того времени признавала право ядра поглотить «выстреленный» по нему нейтрон. Допускала, что при этом образуется более тяжелое ядро. Давала ему свободу остаться стабильным или испустить какую-нибудь частицу – как в резерфордовских опытах. Но развалиться пополам – не разрешала.
И что же было делать немецким химикам Отто Гану (1879-1968) и Фрицу Штрассману (1902-1980), если в облученном нейтронами уране они раз за разом находили следы радиоактивного бария? Его ядра были в два раза легче урановых! Может, случайно загрязнили? Нет, все несколько раз перепроверили. После упорных поисков ошибки не нашли, и результаты пришлось признать убедительными. В самом начале января 1939 года Ган и Штрассман их опубликовали. Наверное, ядро урана «взрывается» при попадании нейтрона, – читалось между строк. Только этим можно было объяснить наблюдаемый эффект. «Мы не можем умолчать о наших данных, даже если они, быть может, и абсурдны с точки зрения физики» – оправдывались люди, причастные к великому открытию. Но заключения, «противоречившего всем прежним представлениям», Ган со Штрассманом так и не сделали. Для этого нужна была серьезная теоретическая подготовка по физике и научная смелость. И эта роль досталась женщине.
Правильное объяснение наблюдаемого парадокса дала Лиза Мейтнер (1878-1968), австрийский физик и радиохимик. Она узнала о результатах «подрывающего основы» эксперимента из личного письма Гана. На размышления ушло совсем немного времени. В том же январе Мейтнер со своим племянником-физиком Отто Фришем (1904-1979) высказала гениальную гипотезу. Сравнив ядро с каплей жидкости, она предположила, что «внедрившийся» нейтрон заставлял эту «каплю» колебаться и доводил ее до разрыва на две примерно равные части, на два ядра-осколка. Из-за электрического отталкивания осколки разлетались в противоположные стороны с огромной скоростью. Фриш «наблюдал» их в чисто физическом эксперименте, подтвердив предположение своей тети.
Л. Мейтнер
Разрыв ядра урана на две части напоминал процесс размножения живой клетки. Неудивительно, что Мейтнер и Фриш воспользовались подсказкой американского биолога Арнольда и назвали новую ядерную реакцию «делением».
Вклад Лизы Мейтнер в овладение атомной энергией был оценен не сразу. Возможно, она и сама хотела отмежеваться от «реакции деления», которая реализовалась в виде мощнейшего оружия. Не получилось. В 1945 году – после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки – ее достижения неожиданно признали. Пресса США окрестила Лизу не иначе, как «матерью атомной бомбы».
Американский кинематограф тоже заинтересовался нелегкой судьбой этой выдающейся женщины. Ведь в 1938 году ей – еврейке по происхождению – пришлось бежать из гитлеровской Германии. И это не помешало Мейтнер через несколько месяцев выдвинуть гипотезу «деления ядра». Безусловно, ее биография была достойна фильма, но Голливуд оказался в своем репертуаре. В предложенном сценарии главная героиня покидала Берлин, спрятав бомбу чуть ли не в дамской сумочке. Возмущению Мейтнер не было предела. Она даже пообещала подать в суд, когда кинокомпания, следуя американской логике, восприняла отказ как попытку «поторговаться».
Смешно: кинодельцы пытались подкупить человека с высочайшими моральными качествами. Достаточно привести всего один пример. В американском проекте по созданию атомного оружия работали ученые со всего мира. Но не Лиза Мейтнер. «Я не буду делать бомбу», – отказала она племяннику Отто Фришу, звавшему тетю в США.
Деление урана чрезвычайно заинтересовало ученых, поскольку сопровождалось высвобождением огромной энергии. Собственно, ее и уносили быстро движущиеся осколки. Но еще один важный факт приметили не сразу: при развале ядра паре-тройке нейтронов удавалось «слинять» оттуда по индивидуальной программе, вне двух осколков. Получалось так, что один нейтрон, попав в ядро урана, вызывал появление уже двух или трех таких же частиц. Они, в свою очередь, могли поразить соседние ядра, тогда те тоже разделились бы с испусканием новых нейтронов; с каждым разом их становилось бы все больше и больше… Как звенья цепочки, цепляющиеся друг за друга, одни нейтроны вызывали бы появление других. Именно по этой причине подобные процессы получили название цепных реакций. В химии они уже были известны: к примеру, взаимодействие газообразного хлора и водорода на свету протекало по цепному механизму, и иногда – со взрывом.

Вопрос «а в физике такие реакции возможны?», как говорится, витал в воздухе. Первым, по всей видимости, о цепной ядерной реакции задумался физик венгерского происхождения Лео Силард (1898-1964). Правда, он рассчитывал реализовать этот процесс при бомбардировке нейтронами бериллия, а не урана. Что ж, ошибся, бывает; но главное-то – идея, а она оказалась верной. Когда деление урана изучили подробно, и выяснили, что на один поглощенный нейтрон испускается два-три новых, Силард тут же переписал свою теорию. Правда, он только лишь теоретически обосновал возможность цепной реакции на ядрах урана. Но его правоту сразу же экспериментально подтвердили известные физики Фредерик Жолио-Кюри и Энрико Ферми.
Итак, что принес 1939 год? Реакция деления ядер урана нейтронами могла быть реализована в форме взрыва с выделением огромной энергии. Это была бомба – как в прямом, так и в переносном смысле.
Оказывается, ядра урана могут делиться и сами, без посторонней помощи. В противовес вынужденному делению, случающемуся после попадания нейтрона, эту «самодеятельность» назвали спонтанным делением. Как психологически неустойчивый человек может неожиданно «взорваться», так и ядро урана без каких-либо видимых причин способно внезапно разлететься на два осколка и пару-тройку нейтронов. Правда, такое событие происходит крайне редко.
Честь открытия спонтанного деления (1940) принадлежит нашим соотечественникам – сотрудникам ленинградского Физтеха Георгию Николаевичу Флерову (1913-1990) и Константину Антоновичу Петржаку (1907-1998), работавшим под началом Игоря Васильевича Курчатова.
В своих опытах они проверяли, может ли цепная реакция протекать в природном уране. Для этого внутрь урановой сферы помещали нейтронный источник, вызывавший деление ядер. Специальный детектор должен был фиксировать осколки. Но вот незадача: прибор регистрировал сигналы и в отсутствие источника нейтронов, чего никак не ожидали! Результат посчитали ошибкой. Перебрали кучу вариантов, внесли изменения в опыт – безуспешно, детектор упорно сигнализировал о появлении осколков. В конце концов, осталось лишь два возможных объяснения: либо были виноваты космические лучи, которые заставляли ядра урана делиться, либо они делали это самопроизвольно. Для исключения первой версии опыт повторили ночью на станции московского метро «Динамо». Слой земли над ней значительно ослаблял космическое излучение. Тем не менее, события фиксировали с той же частотой, что и в лаборатории – примерно шесть раз в час. Оставалась сделать вывод об открытии явления спонтанного – самопроизвольного – деления ядер урана. Позже выяснилось, что аналогичным образом ведут себя и более тяжелые элементы.
Не сделанная бомба Гитлера
В апреле 1939 года внимание немецких ученых поглотила идея практического использования реакции деления, открытой в опытах Гана и Штрассмана. Уран рассматривался как новый, весьма привлекательный источник энергии. Но не только: гамбургские физики Пауль Хартек и Вильгельм Грот письмом известили военных о возможности изготовления урановой взрывчатки невиданной мощи. Корреспонденция попала в нужные руки: армейский специалист по ядерной физике и взрывчатым веществам доктор Курт Дибнер быстро оценил потенциал этой идеи. Он даже настоял на запуске работ еще до официального решения, которое, впрочем, было принято командованием немецкой армии уже в сентябре 1939 года. Научным центром проекта стал Физический институт Общества кайзера Вильгельма – это что-то вроде академии наук – в берлинском пригороде Далеме. Все работы, во избежание утечек информации, были полностью засекречены.
Так Германия стала первой великой державой, давшей ядерной тематике приоритет и официальный статус.
Поначалу специалисты не видели особых преград на пути разработки ядерного оружия. Планировалось, что уже через год все будет завершено. К счастью, целый ряд неожиданных трудностей растянул процесс на несколько лет и не дал довести его до конца.
Осенью 1939 года работа пошла сразу по двум направлениям – взаимосвязанным и одновременно конкурирующим. Первое – создание реактора, в котором процессом выделения энергии можно было бы управлять. Второе – разработка устройства для взрывного высвобождения энергии, то есть бомбы. В первом случае нужно было много урана и тяжелой воды, а во втором – мощная установка для обогащения урана, которой еще не было даже в проекте.
Следует пояснить, что для работы атомного реактора кроме топлива – урана – требуется еще и замедлитель. Ядро урана, распадаясь на осколки, испускает слишком быстрые нейтроны. Из-за скорости они почти не поглощаются другими ядрами, и цепная реакция не идет. Но если заставить нейтроны сбросить скорость, то процесс запустится. Вещества, способные их затормозить, называют замедлителями. Тяжелая вода – лучший представитель этой группы. Более того, она – единственный замедлитель, позволяющий запустить реактор на природном уране. Собственно, такой аппарат немцы и планировали построить.
Нужно было решать проблему с поставками необходимых материалов. Запасами урана Германия похвастаться не могла. До начала Второй мировой войны немцы планировали закупать урановую руду в Бельгийском Конго, но этому воспрепятствовали Великобритания и Франция. Что ж, оставались еще 1200 тонн уранового концентрата в Бельгии, которая была оккупирована в мае 1940 года. Нацистам в руки попала почти половина мирового запаса урана! Вторую половину, хранившуюся в Катанге – провинции Бельгийского Конго, удалось переправить в США. Из нее, равно как и из руды, добытой в Катанге в последующие годы, были сделаны первые американские атомные бомбы.
Впрочем, захватив Чехословакию, Германия силами фирмы «Ауэр» начала осваивать тамошние урановые рудники, и с января 1940 года уже отгружала по тонне оксида урана в месяц.
С тяжелой водой было хуже. Единственное «промышленное» производство – десять килограммов в месяц – находилось в Норвегии. На первое обращение немцев последовал отказ, а все запасы тяжелой воды были проданы Франции.
Фредерик Жолио-Кюри (1900-1958), аспирант Марии Кюри и муж ее дочери – Ирен. Совместно с супругой – лауреат Нобелевской премии по химии.
О нем стоит вспомнить хотя бы потому, что благодаря усилиям Фредерика нацистам не досталась урановая руда из Катанги и первая партия тяжелой воды из Норвегии. Именно он летом 1939 года, среди прочих, предостерег директора бельгийской компании «Юнион Миньер» от контракта с Германией. И это для него французы закупили весь запас тяжелой воды. Интересно, что самолет, в котором, как предполагалось, ее перевозили во Францию, немцы перехватили. Но в канистрах оказалась обычная вода.
И еще, когда в июне 1940 года нацисты вошли в Париж, тяжелой воды там уже не было – в последний момент она «утекла» в Великобританию.
Впоследствии норвежской компании все же пришлось сотрудничать с нацистами, но мощности фабрики катастрофически не хватало. Контракт на полторы тонны тяжелой воды – при производительности около сотни килограммов в месяц – был бы выполнен нескоро. Более того, в 1942 году из-за диверсии поставки совсем прекратились. Наладить их удалось лишь в июне 1943 года, но «праздник» продолжался недолго. В результате бомбардировок союзной авиации 16 ноября 1943 года фабрика была полностью разрушена. Другие источники тяжелой воды оказались маломощными и ненадежными, а реализация новых проектов потребовала бы два года. Пришлось довольствоваться тем, что есть – чуть более двух с половиной тонн на всю Германию.
Тем не менее, эксперименты шли – еще с 1940 года. Осознавая проблему с нехваткой тяжелой воды, ученые пытались заменить ее каким-нибудь другим замедлителем: сухим льдом, бумагой, парафином, графитом, обычной водой. Ничего не получалось, да и по расчетам реакторы с такими замедлителями не могли работать на природном уране. Они требовали обогащенного топлива, и здесь первое направление работ пересекалось со вторым – изготовлением атомной бомбы.
Природный уран представляет собой смесь трех изотопов. Лишь один из них – уран-235 – хорошо делится нейтронами. Это означает, что атомную бомбу можно изготовить лишь из практически чистого урана-235. Да и в реактор лучше загружать топливо с повышенным содержанием этого изотопа – особенно если в качестве замедлителя выбрана обычная вода или графит. К сожалению, в природном уране изотопа-235 мало. Значит, его содержание нужно искусственно повышать: специалисты называют этот процесс обогащением.
Немецкие ученые предложили целых семь методов обогащения урана. Парадоксально, что при таком богатстве выбора внимания не уделили способу, успешно применявшемуся в Англии и США, – диффузии через пористую перегородку. Еще удивительнее, что эту технологию предложил немец Густав Герц в 1930-х годах.
Развитие методов обогащения столкнулось с техническими и материальными проблемами. К примеру, барабаны первых ультрацентрифуг не выдерживали нагрузки и разваливались, а в магнитных сепараторах счет продукта шел не на килограммы, а на атомы. Успехи наметились лишь тогда, когда было уже поздно – летом 1944 года.
Неудачи с обогащением урана, в общем-то, не оставляли Германию без бомбы. Выяснилось, что ее можно сделать из плутония. Его, в свою очередь, сравнительно несложно выделить из урана, облученного… в реакторе. Но для запуска реактора нужна была все та же тяжелая вода, – круг замыкался, других вариантов не оставалось.
Когда оксид урана в экспериментальных реакторах заменили металлическим ураном, специалисты столкнулись с его химическими «капризами». Например, известно, что мелкий порошок урана возгорается на воздухе. Лаборант лейпцигского института, засыпавший порошок в реактор, с такими особенностями не был знаком. Результат – тяжелые ожоги.
В этой же лаборатории 23 июня 1942 года из-за образовавшейся течи уран начал интенсивно взаимодействовать с водой, произошел взрыв. Все запасы урана и почти все запасы тяжелой воды были уничтожены.
Перечисленные трудности относились к сфере науки и техники. В реальности, не меньше проблем возникало из-за плохой организации работ и недостатка финансирования. Общая структура регулярно расползалась на несколько соперничающих групп. К примеру, Курт Дибнер, бывший директор Физического института в Далеме, в конце 1943 года окончательно поссорился с Вернером Карлом Гейзенбергом, назначенным новым директором. В результате они строили два различных крупных реактора на разных площадках. Гейзенбергу, как нобелевскому лауреату, доставались «лучшие куски» – уран, тяжелая вода. При этом его схема реактора была самой непригодной. И хотя Дибнеру удалось добиться впечатляющих успехов, в определенный момент у него забрали всю тяжелую воду – для Гейзенберга.
Недостаток ощущался не только в ресурсах, но и в деньгах. Проиграв битву под Москвой, Гитлер бросил основные средства на ракеты и авиацию; а дальше становилось только хуже. В целом, финансирование нацистского атомного проекта оказалось в двести раз меньше американского.
Сыграла свою роль и политика. Еще в 1930-е годы из страны под давлением были вынуждены уехать многие именитые физики (думается, фамилии Эйнштейн будет достаточно). В реальности же каждый десятый ученый Германии был изгнан из своего института. Многих – за «ненадобностью» – забрали в армию.
Таким образом, Германии не удалось изготовить бомбу по целому ряду причин, а не только из-за бомбардировки завода по производству тяжелой воды в Норвегии. К счастью – для всего мира, – у них не получилось. А могли ли нацисты завладеть смертоносным оружием, будь у них достаточно времени? Скорее всего, да.
Но история не знает сослагательного наклонения.
Когда советские войска уже наступали на Берлин, ученые все еще надеялись запустить реактор. Его перевезли в деревушку Хайгерлох, чтобы разместить в подвале одной из построек. Вырыли яму, собрали установку, провели обнадеживающие опыты. Но французские войска уже были близко, а за 18 часов до их прихода в Хайгерлох приехали американцы из миссии «Алсос», арестовали немецких физиков и вывезли все материалы (уран, тяжелую воду).
Ни в одном из собранных в Германии атомных реакторов так и не удалось запустить цепную реакцию. Но знания немецких физиков пригодились и в США, и в СССР.
Проект Манхэттен
В США научные исследования активизировались после выступления выдающегося датского физика Нильса Бора (1885-1962). 26 января 1939 года на конференции, проходившей в Вашингтоне, он доложил участникам о результатах работ Гана и Штрассмана. Некоторые ученые, едва дослушав рассказ о делении урана, вскочили со своих мест и побежали в лаборатории. Им не терпелось проверить открытие, которое «прозевала» американская наука.
Одновременно возникли опасения, что Германия может опередить другие страны и «смастерить» бомбу раньше всех. Одним из первых бить в колокола начал уже упоминавшийся Лео Силард, физик венгерско-еврейского происхождения. Из-за начавшихся гонений на евреев ему пришлось уехать из Берлина в США. Работая вместе с Энрико Ферми, эмигрировавшим из фашистской Италии вместе с женой-еврейкой, Лео «держал руку на пульсе» в том, что касалось основных работ по делению урана. Понимая, что немцы не упустят благоприятной возможности, что они уже запретили продажу урановой руды из оккупированной Чехословакии, Силард попытался подтолкнуть правительство США к активным действиям. Что он мог предпринять? Только подготовить письмо президенту с предупреждением о возможности создания «чрезвычайно мощных бомб нового типа». В тексте содержался призыв ускорить исследования цепной реакции и создать запасы урановой руды. К счастью, письмо согласился подписать очень уважаемый в Америке ученый – Альберт Эйнштейн, тоже переехавший из Берлина. Корреспонденция была датирована 2 августа 1939 года, но передать ее президенту Франклину Делано Рузвельту удалось лишь 11 октября – из-за начавшейся Второй мировой войны. Рузвельт заинтересовался и решил создать совещательный комитет по урану, который возглавил директор Национального бюро стандартов Лайман Бриггс.
В 1940 году американская наука добровольно «включила режим молчания» по поводу деления урана – ни публикаций, ни выступлений.
В Британии исследования шли гораздо активнее. Мартовский меморандум Фриша-Пайерлса 1940 года «о свойствах радиоактивной супер-бомбы» запустил английский оружейный проект. Для руководства работами правительство учредило «Комитет Мод». Его отчеты должны были направляться и в США, но до американских ученых не доходили, несмотря на важность полученных британцами научных данных. Нужно было разобраться почему. В августе 1941 года представитель комитета Маркус Олифант прилетел в Америку на неотапливаемом бомбардировщике, чтобы «распропагандировать» местных физиков. К его удивлению выяснилось, что Лайман Бриггс просто складывал отчеты в сейф и никому не показывал.
Олифанту пришлось переговорить со множеством ученых и инженеров. Он убеждал их сосредоточить все усилия на производстве бомбы, поскольку у Британии не хватало сил и средств. Тем более, война добралась и до нее, а США все же находились далеко от пылающей Европы.
Визит Олифанта оказался успешным еще и из-за донесений британской разведки, сообщавшей об активной работе немцев над оружейным проектом. Так или иначе, президент Рузвельт 9 октября 1941 года утвердил атомную программу США. В ней, кстати, поучаствовали и британцы.
В 1941 году официальное сотрудничество США и Великобритании в области разработки атомного оружия было минимальным. Американцев не очень-то «пускали» в британский проект «Тьюб Эллойс», а на предложение о финансировании всех совместных англо-американских работ, которое Рузвельт сделал Черчиллю, последний не ответил. Тогда США начали трудиться в одиночку. Британцы же в июле 1942 года осознали свое нарастающее отставание. Черчиллю пришлось договориться с Рузвельтом о кооперации. Только вот теперь уже американцы не горели желанием делиться секретами с англичанами. После ряда неприятных дипломатических моментов в августе 1943 года сотрудничество возобновили. Тем не менее, свою бомбу британцы испытали значительно позже американцев.
1942 год стал прорывным для атомной программы США. Она была передана в ведение армии, обладавшей значительным опытом масштабного строительства. Пришлось даже создать новый округ инженерных войск – Манхэттенский, в честь которого теперь и называют весь проект целиком. Руководителем проекта назначили бригадного генерала Лесли Гровса (1896-1970), который к ядерной физике прежде не имел никакого касательства. Его крутой нрав хоть и отпугивал многих ученых, но, безусловно, способствовал успеху всей работы в целом. Таких организационных проблем, как в Германии, здесь точно не было. А финансирование вообще было неограниченным. Кроме того, Гровсу удалось найти общий язык с выдающимся физиком Робертом Оппенгеймером (1904-1967), которого он фактически «протолкнул» на должность научного руководителя Манхэттенского проекта. Это решение тоже оказалось верным.
В конце года отпраздновали первый крупный успех в деле реакторостроения. К осени все материальные проблемы – с поставками чистейшего урана и графита – были успешно решены, и встал вопрос «где сооружать?». Рассмотрев ряд вариантов, руководитель проекта Энрико Ферми (1901-1954) выбрал стадион Чикагского университета. Там, под трибунами, соблюдая строжайшую секретность, из графитовых блоков и брусков урана в течение всей осени собирали реактор. 2 декабря 1942 года в нем удалось запустить самоподдерживающуюся цепную ядерную реакцию. Иными словами, «котел» работал сам, без всякой помощи извне – впервые в истории человечества!
Э. Ферми
«Чикагская поленница-1» – так назвали первый искусственный ядерный реактор, видимо, в память о том, как его складывали из кусков графита и брусков урана. «Поленницу» впоследствии разобрали, чтобы не эксплуатировать в густонаселенном месте, и сложили повторно – уже подальше от Чикаго.
Когда в «котле» удалось запустить цепную реакцию, в Вашингтон сообщили следующее: «Итальянский мореплаватель только что высадился в Новом свете». Что поделать, секретность; но кто скрывается под именем «итальянский мореплаватель» – вполне ясно.
После успеха Ферми стало ясно, что атомная бомба – реальность. Ее, к примеру, можно было сделать из плутония, полученного в урановом реакторе.
В Штатах, как и в Германии, работа пошла по двум направлениям. Первый путь подразумевал изготовление плутониевой бомбы. Для этого нужно было запустить реактор и дать ему некоторое время поработать. В ходе ядерных реакций часть урана превратилась бы в плутоний, который химическим путем можно было бы отделить, причем успех «Чикагской поленницы» Ферми давал надежду, что необходимое количество плутония удастся получить быстро. В Хэнфорде (на реке Колумбия) принялись за сооружение реактора Х-10, который заработал 4 ноября 1943 года, и уже к концу месяца произвел полграмма плутония. Этого было явно недостаточно: требовались килограммы атомной «взрывчатки». Тогда на той же площадке один за другим запустили три гораздо более крупных реактора B, D и F.
Второе направление – обогащение урана – из-за определенных технических проблем развивалось не так быстро, но вполне успешно. Для повышения содержания урана-235 было решено использовать сразу три метода: термодиффузию, газовую диффузию и электромагнитную сепарацию. Все три способа имели перспективы, но по отдельности не дали бы быстрого результата. На опережение сработала идея Лесли Гровса использовать продукцию с одних установок как сырье для других. Это значительно ускорило процесс.
Но все же плутоний «подоспел» раньше. Вообще, идею испытания плутониевого заряда принялись обсуждать еще в начале 1944 года – и довольно обстоятельно. Стоит ли удивляться, что для него разработали специальное взрывное устройство. Площадку для испытаний выбирали из восьми вариантов: требовался удаленный, изолированный, незаселенный, плоский и безветренный кусок земли. В конце концов, остановились на полигоне Аламогордо в штате Нью-Мексико на юго-западе США.
16 июля 1945 года все было готово к испытаниям, получившим название «Тринити». В 5.30 утра бомба по имени «Штучка» взорвалась с мощностью около 18 килотонн в тротиловом эквиваленте. Вспышка по яркости многократно превосходила полуденное солнце, она ослепляла и восхищала игрой красок – золотой, фиолетовой, синей и серой. Ударная волна унеслась на 160 километров, а «гриб» поднялся на высоту 12 километров. Песок на месте взрыва сплавился и превратился в светло-зеленое стекло. Это был оглушительный успех! Но мир изменился навсегда.
6 августа 1945 года американцы впервые применили свое изобретение как оружие. На японскую Хиросиму была сброшена 15-килотонная бомба «Малыш». Ее начинка – уран-235 – была изготовлена путем обогащения урана на заводе Y-12 в Ок-Ридже, штат Теннесси. А 9 августа близкий аналог «Штучки», плутониевый «Толстяк» (21 килотонна), «накрыл» Нагасаки. Города подверглись сильным разрушениям, число жертв превысило две сотни тысяч. Если говорить цинично, то американцы своей цели добились – 2 сентября 1945 года Япония капитулировала. Но нужны ли были атомные бомбардировки? Дискуссия продолжается до сих пор. Кто-то считает, что США таким образом сохранили огромное число жизней с обеих сторон, избежав необходимости вторжения. А кто-то указывает на успехи СССР, разгромившего сильную Квантунскую армию в Маньчжурии, – эта военная операция значительно приблизила капитуляцию японского командования. С такой точки зрения атомные удары по Хиросиме и Нагасаки выглядят, скорее, как военные преступления.
Известен курьез, который произошел с американским писателем-фантастом Робертом Хайнлайном. В 1941 году в повести «Злосчастное решение» он изобразил, как американцы создадут из урана-235 бомбу и сбросят ее в конце войны на крупный город противника. Сюжет был столь похож на действительность, что писатель был привлечен к ответственности за разглашение тайны.
Как бы там ни было, августовской атомной бомбардировкой США продемонстрировали свое превосходство в вооружениях перед всем миром. И главным адресатом этой «презентации» был Советский Союз.
Кстати, еще 24 июля 1945 года во время Потсдамской конференции президент США Гарри Трумэн между делом намекнул Сталину об «оружии необыкновенной разрушительной силы», которым теперь обладали Штаты. Сталин не проявил видимого интереса к словам Трумэна, но означало ли это его неосведомленность? Конечно, нет. Советский атомный проект к тому моменту уже существовал и довольно быстро развивался. А как иначе, если уже в конце 1945 года в Америке появились первые планы ядерных ударов по территории СССР с устрашающими названиями – «Клещи», «Жаркий день», «Испепеляющий жар», «Встряска»? Нас хотели вернуть в каменный век, полностью уничтожив промышленность. Пыл американской «военщины» охлаждали только советские танки в Европе и возможные огромные потери бомбардировщиков. Дальше становилось только хуже: бывшие союзники превратились во врагов, поскольку не могли допустить возрастания роли СССР в мире. Поэтому советским ученым нужно было поспешить с бомбой. Кое-что пришлось даже «позаимствовать» у американцев, не спрашивая их разрешения; пару слов об этом нужно сказать обязательно.
Усилиями армейской контрразведки Манхэттенский проект стал тайной «за семью печатями»: о его сути знали очень немногие. В Штатах засекретили книги и статьи о возможности создания атомного оружия, из библиотек изъяли некоторые номера газет. К редакциям обратились с настоятельной просьбой не публиковать ничего по атомной тематике. Жители населенных пунктов, где велись основные работы, – Ок-Риджа, Лос-Аламоса, Хэнфорда – находились «под колпаком». Их телефонные разговоры прослушивали, а письма вскрывали. За основными участниками проекта следили специальные «телохранители» и звукозаписывающие аппараты.
Но это не помешало советской разведке получить необходимые данные. К примеру, описание устройства первой американской бомбы было передано в Москву уже через двенадцать дней после окончания ее сборки. И еще много полезной информации в зашифрованном виде было передано разведчиками – начиная аж с сентября 1941 года.
Наиболее успешным агентом оказался завербованный физик Клаус Фукс, работавший в Лос-Аламосе в составе британской группы ученых. По происхождению немец, он симпатизировал коммунистам и искренне считал, что запад не должен обладать монополией на атомную бомбу. Поэтому он передавал СССР сведения и о британских, и об американских разработках (в Лос-Аламосе). Арестовали Фукса лишь в 1950 году в Англии, причем США не выдали, чем спасли от смертной казни. В 1959 году он был выпущен досрочно, после чего поселился в ГДР.
Советский разведчик Жорж Абрамович Коваль работал в Ок-Ридже и Дейтоне. Благодаря его информации советским ученым удалось решить важную проблему нейтронного запала атомной бомбы. Интересно, что после окончания карьеры разведчика Коваль стал преподавателем Московского химико-технологического института.
Можно назвать еще несколько фамилий: супруги Розенберги, Дэвид Грингласс, Харри Голд, Теодор Холл… Но главный вопрос не в количестве «шпионов», а в том, насколько добытая ими информация ускорила советский атомный проект. В словесных баталиях по этому вопросу, как говорится, «сломано немало копий». Ярые критики убеждают, что без американских чертежей и данных СССР «возился» бы с бомбой гораздо дольше. Квасные патриоты заявляют, что наши ученые и инженеры в эти бумаги почти и не заглядывали. Истина же, как всегда, оказывается где-то посередине. Безусловно, данные разведки сэкономили время, но не более того. Советской науке и промышленности удалось самостоятельно и в кратчайшие сроки решить ряд сложнейших проблем: организация добычи урана, разработка технологии производства металлического урана, выделения плутония, изготовления заряда на его основе… Впрочем, об этом как раз и пойдет речь дальше.
О роли советской разведки лучше всего сказал научный руководитель атомного проекта Игорь Васильевич Курчатов (цитата 1943 года):
«Произведенное мной рассмотрение материала показало, что получение его имеет громадное, неоценимое значение для нашего государства и науки. С одной стороны, материал показал серьёзность и напряжённость научно-исследовательской работы в Англии по проблеме урана, с другой – дал возможность получить весьма важные ориентиры для нашего научного исследования, миновать многие трудоемкие фазы разработки проблемы и узнать о новых научных и технических путях ее разрешения».
А что у нас?
Об открытии деления урана советские ученые узнали из иностранных журналов. Сразу же сформировалось несколько новых направлений исследований. В Радиевом институте Виталий Григорьевич Хлопин с сотрудниками изучал химические свойства осколков деления урана. В Физтехе группа Игоря Васильевича Курчатова (1903-1960) выясняла, высвобождаются ли в ходе деления свободные нейтроны, и если да, то в каком количестве. В Институте химической физики, выделившемся из Физтеха, Яков Борисович Зельдович (1914-1987) и Юлий Борисович Харитон (1904-1996) пытались рассчитать, сколько урана нужно для протекания цепной реакции. Иными словами, советские ученые работали над теми же проблемами, что и западные специалисты, но, к сожалению, не опережали их. Во многом это было связано с задержкой в доставке иностранных журналов на несколько недель. Да и, что говорить, коллективы в Европе и в США работали очень быстро.
Но даже в этих условиях наши физики совершили открытие мирового уровня. Речь, конечно, идет о спонтанном делении урана, обнаруженном Флеровым и Петржаком в 1940 году.
Впрочем, отношение большинства советских ученых к возможности практического использования атомной энергии было скептическим. Это считалось нереальным или слишком дорогостоящим предприятием. Мало кто верил, что реактор или «супер-бомбу» удастся создать быстро. Вот почему результаты исследований по урановой тематике в Советском Союзе публиковались свободно – в противовес «добровольной цензуре» западных ученых. По этой же причине в течение полутора лет с момента открытия реакции деления никто из ученых не «будоражил» правительство тревожными сообщениями.
Летом 1940 года ситуация отчасти изменилась. Сын Владимира Ивановича Вернадского Георгий, преподававший историю в Йельском университете, наткнулся на статью в газете «Нью-Йорк Таймс» от 5 мая 1940 года. Научный обозреватель Уильям Лоуренс, преувеличивая и приукрашивая реальность, писал о чрезвычайной энергоемкости урана-235. Как раз в это время удалось выделить два небольших образца чистого изотопа и показать, что он эффективно делится нейтронами. Журналист решил, что время для сенсационного материала настало. Публикация вышла на первой странице воскресного номера и вызвала интерес. Кстати, потом – во время Манхэттенского проекта – этот выпуск газеты изымали из библиотек в целях обеспечения секретности.
Георгий переслал статью отцу, давно интересовавшемуся вопросами атомной энергии, и тот сразу понял, что Советский Союз отстает от мировых тенденций. Он ощутил и глубину основной проблемы: дефицит урана. Этот металл практически не использовался промышленностью. Радий уже несколько лет добывали в основном из подземных минерализованных вод Ухтинского месторождения, а не из урановых руд. По этой причине поиск и разведка месторождений урана велись в темпе «нога за ногу». И вдруг этот ресурс приобрел исключительное значение.
Вернадскому предстояло повторить свой гражданский подвиг: в 1910 году он «заставил» Россию искать радий, теперь нужно было подтолкнуть правительство к поискам урана. Предпринятые ученым действия сработали: 30 июля 1940 года была создана Комиссия по проблеме урана при Президиуме Академии наук. Ее председателем 77-летний Вернадский попросил назначить более молодого Хлопина.
Урановая комиссия, по задумке, должна была руководить работами по атомной тематике, но все уперлось в нехватку урана, без которого любые эксперименты теряли смысл. Его резервы в институтах оказались почти нулевыми, радиевый рудник в Тюя-Муюне был закрыт в 1936 году, а геологи ничего не могли сказать о запасах этого металла в стране.
Осенние экспедиции 1940 года в Средней Азии не дали поводов для оптимизма: организация добычи урана требовала значительных капиталовложений. Да и последующие работы – по обогащению, строительству реактора – грозили стать дорогостоящими. Но стоило ли обращаться к правительству за ассигнованиями, не имея уверенности в успехе? Хлопин считал, что рано: нужно было подробнее изучить цепные реакции. В итоге работы продолжились, но не слишком интенсивно: мешала бюрократия, нехватка урана, извечные противоречия между физиками и химиками…
А с началом Великой Отечественной войны комиссия и вовсе прекратила свою работу: силы ведущих ученых понадобились для решения насущных проблем, появлявшихся как грибы после дождя.
В то же время советская разведка не дремала. Рассекреченные архивные документы свидетельствуют о ее пристальном внимании к работам по созданию атомного оружия, развернутым во Франции, Англии, США и Германии. Тревожные данные копились и копились, пока объем собранной информации не превысил некое критическое значение. Следовало известить руководство страны о том, что «конкуренты» значительно продвинулись на пути к атомной бомбе, и наше отставание приобретало угрожающий характер. Но вместе с тем оставались вполне обоснованные сомнения в достоверности полученных сведений: а не водили ли иностранцы наших агентов «за нос», разжигая интерес к урановой бомбе, которая в итоге оказалась бы просто «пустышкой»? Руководством Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Красной армии было принято весьма разумное решение – спросить ученых. Написали секретное послание в Академию наук СССР с просьбой разъяснить, насколько правдоподобны стекающиеся в Москву разведданные. В.Г. Хлопин ответил, что Академия сведениями о ходе работ в зарубежных исследовательских центрах не располагает, но обратил внимание на отсутствие публикаций по проблеме урана в иностранных изданиях за последний год. Возможно, – писал он, – работы засекречены, и было бы неплохо получить о них более подробную информацию.
Первые крупные пакеты добытых сведений передали уполномоченному Государственного комитета обороны по науке Сергею Васильевичу Кафтанову в конце августа – начале сентября 1942 года. Информация была столь серьезной, что Кафтанову и Иоффе пришлось подготовить проект распоряжения по возобновлению работ в области использования атомной энергии.
28 сентября 1942 года это совершенно секретное распоряжение («Об организации работ по урану») было утверждено И.В. Сталиным, председателем Государственного комитета обороны (ГКО) – высшего органа управления страной во время войны. Так начался советский атомный проект.
Этим распоряжением Академию наук обязали возобновить исследования по использованию атомной энергии, приостановленные с началом войны, и даже создать спецлабораторию атомного ядра. Только где же ее можно было разместить? Конечно, в Казани – там в эвакуации находились сотрудники ленинградского Физтеха, любимого детища Иоффе. А заведовать лабораторией назначили молодого Игоря Васильевича Курчатова, одного из немногих специалистов по урановой проблеме.
ЛИЧНОСТЬ: ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ КУРЧАТОВ (1903-1960)
В тяжелые военные и послевоенные годы этому удивительному человеку удалось собрать вокруг себя лучших ученых страны, чтобы единым рывком решить сложнейшую задачу – создать атомную бомбу. Его организаторский талант и объединяющее обаяние, думается, сыграли важную роль в достижении успеха. Но самое главное, что привнес Курчатов в советский атомный проект – это свое умение «угадывать» основное направление работы. «В любом деле важно определить приоритеты. Иначе второстепенное, хотя и нужное, отнимет все силы и не даст дойти до главного», – говорил он. Этот полезный совет способен оценить каждый, но далеко не у всех развит навык правильного выстраивания приоритетов. Курчатов обладал им в полной мере не только как выдающийся ученый, но, в первую очередь, как разносторонний и трудолюбивый человек.
Желание трудиться и интерес к науке проявились в нем с детства: симферопольская гимназия была окончена с золотой медалью, четырехлетний курс Крымского государственного университета – успешно завершен за три года. При этом Курчатов увлекался музыкой, жадно читал художественную литературу и… успевал подрабатывать. Сохранился забавный биографический эпизод, когда первокурснику Игорю удалось наняться ночным сторожем в кино. Уставший студент, как правило, засыпал в фойе, чем не преминули однажды воспользоваться мелкие воришки: кинозал «обнесли», после чего незадачливого охранника уволили. Чуть позже он получил оплачиваемое место в физической лаборатории университета, и иногда засиживался там до полуночи, но, понимая неполноту своих знаний, уже грезил учебой в петроградском Политехе.
В 1923 году Курчатова приняли на третий курс кораблестроительного факультета Политеха. (Специальность была выбрана неслучайно, из-за любви к морю, укрепившейся за годы жизни в Крыму). Но в том же году его отчислили за отставание: нашедший подработку в Магнитометеорологической обсерватории Павловска Игорь так увлекся, что сделал ее своей основной работой. Измерения альфа-радиоактивности снега и последующие расчеты были проведены им на необычайно высоком уровне.
Затем Курчатов снова оказался в Крыму, где изучал интересное природное явление – сейши, особый вид волн; потом судьба забросила его в бакинский политехнический институт – здесь он бился над тайнами диэлектриков – материалов, практически не проводящих электрический ток. Работу заметили в ленинградском Физтехе: директор Иоффе пригласил его в штат. Отказаться от поездки в «сердце» советской физики Игорь Васильевич не мог: там и продолжил свои исследования в области диэлектриков – на более качественной аппаратуре и в кругу молодых единомышленников. Он буквально жил наукой. Как вспоминал Абрам Федорович Иоффе: «Почти систематически приходилось в полночь удалять его из лаборатории».
После открытия нейтрона в 1932 году Курчатов с огромным интересом взялся за новое направление – физику атомного ядра. И на этом поприще он быстро достиг успеха, став соавтором открытия ядерной изомерии – явления, когда одинаковые по массе и составу ядра ведут себя по-разному с точки зрения радиоактивных свойств из-за того, что обладают различной энергией.
Для новых исследований нужен был мощный источник нейтронов, поэтому Курчатов всеми силами ускорял строительство ускорителя – циклотрона в Радиевом институте. Этот аппарат, запущенный в Ленинграде, стал первым циклотроном в Европе! И благодаря выдающимся организаторским качествам Игоря Васильевича ускоритель заработал уже в 1937 году, хотя до прихода Курчатова дела шли, мягко говоря, не очень.
Добившись своего, он тут же задумал построить похожую машину в Физтехе, чтобы обеспечить нейтронами тамошних исследователей. Но на этапе строительства важный проект прервала Великая Отечественная война.
Однако еще до ее начала Курчатов с сотрудниками успел «подключиться» к мировому тренду – исследованию деления ядер урана. Именно его воспитанники – Флеров и Петржак – совершили открытие самопроизвольного деления урановых ядер (1940). Это явно свидетельствует о том, что работы в лаборатории шли на мировом уровне. Только ответом на публикацию Флерова и Петржака в «Физикал ревью» было молчание: западные ученые и издательства к тому моменту перестали печатать статьи по этой тематике.
Тем не менее, советские ученые уже задумывались о возможности создания и бомбы, и реактора – аппарата для получения энергии. Стенограмма дискуссии, развернувшейся 26 февраля 1940 года в стенах Академии наук после доклада Курчатова «О проблеме урана», показывает осведомленность академиков в вопросе. Помимо прочего, они обсуждали проблему выделения чистого урана-235!
А потом страну захлестнула война, и специалисты оказались нужны фронту. Игорь Васильевич, отправив свою лабораторию в эвакуацию в Казань, бросился на решение проблемы защиты кораблей от магнитных мин. Он работал со своим старым другом Анатолием Петровичем Александровым – сначала на Балтийском флоте, а затем – в Севастополе. Их рецепт размагничивания корпусов кораблей оказался успешным и позволил сберечь много человеческих жизней.
Бомбардировки Севастополя вынудили Курчатова уехать в Казань, к своей лаборатории. Впрочем, скоро – в марте 1942 года – ему пришлось заниматься новой проблемой: танковой броней и ее защитой от взрывов. И только повторно всплывшая благодаря докладам разведки проблема урана оторвала его от действительно важных дел по совершенствованию защиты танков. Судьба приготовила Курчатову гораздо более серьезную работу – научного руководителя советского атомного проекта.
На этом посту проявились все лучшие качества Курчатова-руководителя: уникальное умение подбирать кадры, организовывать работу и контролировать ее выполнение. Он вникал во все проблемы, прислушивался к мнению сотрудников и не боялся личной ответственности. Поддерживал между коллективами атмосферу дружеского соревнования, а не «голодных игр» на выбывание. Благодаря своим достоинствам, Игорь Васильевич приобрел непререкаемый авторитет и среди коллег, и в самых высоких правительственных кругах. Сегодня такого человека назвали бы гениальным менеджером. Наверное, это довольно точное определение. Благодаря обширным познаниям и накопленному опыту, Курчатов вживался в суть исследований и производственных процессов, которыми руководил. У нынешних управленцев такой подход, к сожалению, встречается редко.
А еще Курчатова часто – и в целом правильно – называют «отцом» советской атомной бомбы. Но не стоит забывать, что его безусловным приоритетом было мирное использование атомной энергии и, желательно, разоружение. Игорь Васильевич глубоко переживал то, что его детище может быть использовано против людей. Возвратившись с испытаний термоядерной бомбы, он сказал своему другу Александрову: «Анатолиус! Это было такое ужасное, чудовищное зрелище! Нельзя допустить, чтобы это оружие начали применять».
Курчатов предпринял множество усилий, дабы энергия, хранящаяся в атоме, служила людям. Он знал, что мощнейшие бомбы в арсеналах ведущих стран удерживали мир от войны. Но для развития человечеству были нужны электростанции, и Курчатов протянул ниточку от атомного оружия к АЭС, а в конце жизни пытался сделать то же с термоядерной бомбой. Впрочем, усилий одного человека и даже целой страны было мало; он грезил о всемирном проекте, о «кругосветном» сотрудничестве. Спустя десятилетия мечта нашего великого соотечественника реализовалась: ныне во Франции совместными усилиями ведущих государств сооружается Международный экспериментальный термоядерный реактор ИТЭР. И в этом – отчасти – заслуга Игоря Васильевича Курчатова.
Второе важное постановление ГКО – «О добыче урана» – вышло 27 ноября 1942 года. Что говорить, нехватка урана и практически полная неосведомленность о его запасах могли похоронить отечественную программу по созданию атомного оружия. СССР и так опоздал с ее запуском.
Насколько к этому моменту времени мы отставали от западных стран? И.В. Курчатов, анализируя разведматериалы, отмечал, что «масштаб проведенных Англией и Америкой в 1941 году работ больше намеченного» в СССР на 1943 год. Казалось, пора бы ускориться, да и возможности для этого появились. Но не тут-то было: работы все равно шли недостаточными темпами. Причина – сомнения в реальности атомной бомбы. Результат – оба важнейших распоряжения выполнялись плохо, о чем свидетельствуют докладные записки начала 1943 года.
Понятно, что такое состояние дел могло дорого обойтись целому ряду высоких руководителей. Чтобы «подстегнуть процесс», в феврале 1943 года приняли еще одно сверхсекретное распоряжение ГКО, в котором научное руководство работами по урану впервые было передано Курчатову. Огромная ответственность легла на плечи молодого профессора: 5 июля того же года он должен был кратко ответить на вопрос о возможности создания урановой бомбы – да или нет.
Разрешить эту дилемму можно было только после довольно сложных экспериментов и раздумий, поэтому ряд сотрудников спецлаборатории перевели из Казани в Москву, обеспечив необходимым оборудованием и материалами. Так 12 апреля 1943 года в столице появился научный институт с незатейливым названием «Лаборатория № 2», – чтобы никто не догадался. В будущем этой «лаборатории» была уготована славная судьба: она станет всемирно известным центром научных исследований и получит имя первого руководителя – речь, конечно, идет о Курчатовском институте. Но пока перед Игорем Васильевичем с сотрудниками стоял вполне конкретный вопрос: можно или нельзя сделать бомбу, да или нет?
Да! Изучив данные разведки и получив необходимые экспериментальные результаты, Курчатов пришел к выводу о возможности создания атомной бомбы и атомного реактора. Причем успеха можно было достичь, не направляя все силы на решение сложнейшей задачи обогащения урана, то есть получения оружейного урана-235. Труднопреодолимый горный хребет, вставший на пути ученых, как оказалось, не требовалось покорять, – его можно было просто обойти. Конечно, работы по способам выделения урана-235 продолжались, но у него появился достойный конкурент – плутоний, продукт работы атомного реактора. Он тоже обладал «взрывным характером». Сложность заключалась лишь в запуске «котла» на природном, необогащенном уране, в котором постепенно накапливался бы плутоний. Согласно сведениям, добытым разведкой, и расчетам сотрудников Лаборатории № 2 аппараты из урана и чистейшего графита или урана и тяжелой воды обещали заработать как надо.
Все бы хорошо, но только упомянутые материалы были в страшном дефиците, а промышленных установок по выделению урана-235 не существовало даже в проекте, о чем Игорь Васильевич честно известил руководство страны. Конечно, он не только констатировал печальные факты, но и составил перечень неотложных мер по решению возникших проблем. В конце концов, поддержка государства, слаженная работа собранных в Лаборатории № 2 специалистов, энтузиазм и управленческий гений Курчатова сделали свое дело. К марту 1944 года уже были разработаны необходимые химические технологии, проект установки для обогащения урана, схема получения тяжелой воды, постепенно решались проблемы с чистотой графита. Словом, дело переходило в практическую плоскость.
И только урана в необходимом количестве не было: план по производству не выполнялся, месторождения были разведаны плохо, а купить его у американцев не представлялось возможным. Что же оставалось делать? Если подумать, разведка сообщала об атомной программе Германии; уран стоило поискать там.
5 мая 1945 года И.В. Курчатов обратился к наркому (министру) внутренних дел Лаврентию Павловичу Берии с просьбой отправить в Берлин несколько сотрудников Лаборатории № 2. Их задача была ясна как день: искать уран, оборудование, записи, ученых, способных «продвинуть» советский атомный проект. Тем более, разведка все чаще сообщала об успехах Манхэттенского проекта.
Надо сказать, что американцы предприняли все возможные усилия, чтобы помешать СССР заполучить германские атомные секреты. Спецгруппа арестовывала и отправляла в Англию немецких ученых-атомщиков, искала и вывозила за рубеж урановое сырье, шахтное и научное оборудование. В историю эта операция – к сожалению, весьма успешная – вошла под названием миссия «Алсос».
Вот примеры работы миссии «Алсос» в Германии.
Начиная с 17 апреля 1945 года, за десять дней из города Штасфурт (советская зона оккупации) вывезли около тысячи тонн соединений урана, того самого, что немцы в начале войны забрали из Бельгии.
23 апреля 1945 года в деревне Хайгерлох (французская зона оккупации) обнаружили экспериментальный атомный реактор, размещенный в подвале. Его разобрали, тяжелую воду, уран и документы вывезли, а остальное – подорвали. Нельзя было оставить такой подарок французам, ведь они точно поделились бы своей находкой с русскими!
В общем, получился не «Алсос», а какой-то «Пылесос».
Но все же и нашей «трофейной» команде кое-что осталось. В докладной записке на имя Берии, датированной 18 июня 1945 года, приведены конкретные данные: 380 вагонов с оборудованием, 39 немецких ученых, инженеров и мастеров и, что самое главное, до 300 тонн урановых соединений и 7 тонн металлического урана были направлены в Советский Союз. Причем заветный металл уже доставили куда нужно.
Что означала эта находка для отечественного проекта по созданию атомного оружия? Наверное, лучше всего снова процитировать Курчатова: «До мая 1945 года не было надежд создать уран-графитовый котел, так как в нашем распоряжении было только 7 тонн окиси урана, а нужные 100 тонн урана могли быть выработаны не ранее 1948 года. В середине прошлого года Берия направил в Германию специальную группу работников Лаборатории № 2 и НКВД во главе с Завенягиным, Махневым и Кикоиным для поиска урана и уранового сырья. В результате большой работы группа нашла и вывезла в СССР 300 тонн окиси урана и его соединений, что серьёзно изменило положение не только с уран-графитовым котлом, но и со всеми другими урановыми сооружениями…».
Кстати, немецкие ученые внесли весомый вклад в создание советского атомного оружия, и некоторые из них даже получили государственные награды. Например, Николаус Риль, возглавивший производство металлического урана в подмосковной Электростали, получил – единственный из всех «завезенных» – звание Героя социалистического труда. Ему и вправду удалось в довольно короткие сроки наладить крупномасштабный выпуск металла высокого качества, который очень пригодился при запуске первых реакторов.
Впрочем, об этом – дальше.
Россия делает сама
Несмотря на определенную спешку, работы все же продвигались недостаточными темпами. Что ж, на ум приходит известная пословица: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Роль грома сыграло первое испытание атомного заряда, о котором президент США Трумэн сообщил Сталину на Потсдамской конференции 24 июля 1945 года. Оглушающими раскатами отозвались последовавшие бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
Сталин прекрасно понимал, чем грозила нашей стране американская монополия на атомное оружие. Следовало приложить все усилия, чтобы успеть сделать свою бомбу, тем самым остудив желание США навсегда решить вопрос с непокорными русскими, нанеся массированный удар по их промышленным центрам.
Конечно, правительство СССР было готово выделить любые средства на решение этой проблемы, но разве можно было обойтись в таких делах без четкой организации и контроля над расходованием денег? 20 августа 1945 года при Государственном комитете обороны создали Специальный комитет под председательством Лаврентия Павловича Берии. Спецкомитету предписывалось руководить всеми работами по использованию атомной энергии, но его члены, скорее, должны были принимать решения, для реализации которых одновременно организовали Первое главное управление при Совете народных комиссаров (т.е. правительстве) СССР.
Специальному комитету были даны исключительные права, практически любые материально-технические средства и человеческие ресурсы. Главная задача была понятной и сверхсекретной – к началу 1948 года у СССР должна была появиться бомба, готовая к первым испытаниям.
Столь сжатые сроки определили активнейшее использование разведданных. От полета научной мысли пришлось на время отказаться и пойти по американскому пути, который подразумевал получение плутония в уран-графитовых реакторах, а также производство урана-235 на обогатительных установках. Советские ученые и инженеры все же шли по проторенной тропе – благодаря работе наших агентов в крупнейших научных центрах США и Великобритании.
В то же время материалы разведки хоть и ускорили успех советского атомного проекта, но не отменили необходимость разработки уникальных химических технологий для работы с ураном и плутонием, а также строительства целого ряда высокотехнологичных предприятий. И с этими задачами справились за короткие четыре года!
Сначала все силы бросили на сборку и запуск уран-графитового реактора, разместить который решили в Москве – в Лаборатории № 2. Как уже было сказано, проект тормозила нехватка урана и отсутствие технологии производства графита высокой чистоты. Уран удалось вывезти из Германии, чуть позже – организовали его добычу в некоторых странах Восточной Европы, а с лета 1946 года – в Средней Азии. (Более подробно об истории становления отечественной уранодобывающей и перерабатывающей промышленности рассказано в главе 3, посвященной ядерному топливу).
Что касается графита, производимого нашими заводами, то он оказался довольно «грязным» и никак не хотел избавляться от примесей, способных помешать запуску будущего реактора. Тут-то впервые и пригодился талант Ефима Павловича Славского (1898-1991), которого Курчатов переманил из министерства цветной металлургии в Первое главное управление (ПГУ). Благодаря неутомимой деятельности Славского, промышленники научились очищать графитовую массу, прокаливая ее с хлором до высоких температур. При такой обработке примеси просто улетучивались.
Более преград на пути к пуску первого атомного котла не было.
ЛИЧНОСТЬ: ЕФИМ ПАВЛОВИЧ СЛАВСКИЙ (1898-1991)
Легендарный руководитель советской атомной промышленности, под руководством которого были возведены многие «атомные» города и все АЭС, построенные в период до восьмидесятых годов прошлого века.
Родился в Донбассе, в селе Макеевка. Рано потерял отца, скончавшегося от воспаления легких. Уже в десять лет Ефиму пришлось «тянуть лямку» наравне со всеми: он пошел работать подпаском, следить за скотом. Но потом решил, что зарождающаяся на юге России промышленность намного интереснее коровьего стада, и сбежал на металлургический завод. Тринадцатилетний паренек обладал такой физической силой, что ему поручили весьма тяжелую операцию – обработку корпусов артиллерийских снарядов.
В годы Гражданской войны (1917-1923) он оказался на «правильной» стороне: вступил в партию большевиков, служил в рядах Первой конной армии, закончил войну «с шашкой в руке в коннице Буденного» – в звании комиссара полка!
Страсть к металлургии осталась, и после армии он решил выучиться на инженера: сначала получил среднее образование, а потом окончил Московский институт цветных металлов и золота. Первое назначение – Кавказ, завод «Электроцинк», где молодой инженер вырос до директора. А затем – Запорожье, руководство Днепровским алюминиевым заводом, самым большим в Европе! Успехи Славского заметили и пригласили на более высокий пост – замминистра цветной металлургии. И в тот момент, когда он отправился сдавать дела, страну атаковали немцы. Вместо работы в теплом московском кабинете Ефиму Павловичу пришлось под ураганным огнем в течение полутора месяцев «собирать» свой завод в эвакуацию. Надо сказать, что немцы не планировали это важнейшее производство разрушать, – напротив, хотели воспользоваться его мощностями. А вот всех, кто «копошился» на территории завода было предписано уничтожить с помощью минометов и пулеметов. Под руководством Славского коллектив совершил подвиг: пока немцы в бессильной злобе лупили с противоположной стороны Днепра по всему живому, оборудование сняли с мест, загрузили на железнодорожные платформы и вывезли на Урал. Это была небольшая, но победа.
После перелома в ходе Великой Отечественной войны Ефим Павлович вернулся в Москву – продолжать работу в должности заместителя министра. И вот однажды его начальник задал подчиненному не совсем понятный вопрос: «Слушай, ты знаешь Бороду?» – Славский не знал. – «Ты с ним, ради бога, поскорей познакомься. Мы должны сделать для него чистый графит. Эта «Борода» нас в гроб загонит!» Тогда-то и пришлось впервые пообщаться с Курчатовым, ведь речь, конечно, шла об улыбчивом академике, прозвище которого определила шикарная растительность на лице. И вправду, к кому еще было обратиться Игорю Васильевичу за чистейшим графитом, как не к специалисту по алюминию, при производстве которого используются графитовые электроды? Причем был нужен действительно высококачественный материал, ведь в Германии сложности возникли именно из-за того, что компания «Сименс» не смогла в 1941 году выдать «сверхчистый» продукт – поэтому от графитового реактора немцы отказались. А Курчатов знал, что в США такой «котел» успешно запустили, и научный руководитель советского атомного проекта настаивал на конструкции из графита. После ряда неудач специалистам под руководством Славского удалось получить «то, что нужно».
А потом его закружили «атомные» дела: строительство первого промышленного реактора для получения оружейного плутония, испытания бомбы, массовое строительство АЭС… «Главное мое счастье – Мир, который сейчас гарантирован – я в него столько сил вложил, сколько другому человеку на десять жизней не хватит», – говорил Славский. Кипучую, успешную деятельность руководителя министерства среднего машиностроения (сейчас – Росатом) прервала лишь чернобыльская авария, которую он переживал как личную трагедию. В ноябре 1986 года Славского «выпнули» на пенсию. Но разрушенный реактор он все же успел «укрыть»…
Первый реактор решили сделать не очень большим: в случае ошибки было бы не так обидно за потраченное время и израсходованные материалы, как если бы сорвался пуск крупной установки. Кроме того, «маленький» котел позволил бы получить бесценный опыт для сооружения и управления реактором промышленного масштаба.
Строительство было окутано тайной. Реактор в целях поддержания секретности называли «электролизером», уран – «кремнием»; одноэтажное здание реактора с глубоким котлованом и подземным входом величали «монтажными мастерскими».
К сборке атомного котла – так до 1955 года называли реакторы – приступили в ноябре 1946 года. В распоряжении коллектива были графитовые призмы (100 х 100 х 600 мм) с тремя отверстиями, куда следовало вставлять урановые цилиндрики (диаметром 32 мм и длиной 100 мм). Из всего этого «богатства» предполагалось вручную собрать шар диаметром около шести метров. Однако ученые не знали точно, сколько урана и графита понадобится для запуска самоподдерживающейся цепной реакции. Поэтому руководивший работами Курчатов решил раз за разом собирать «шары» все большего диаметра. Начали с двух метров.
Кроме урана и графита внутри конструкции разместили извлекаемые стержни из кадмия – материала, поглощающего нейтроны, без которых, как известно, цепная реакция невозможна. Работоспособность реактора проверяли следующим образом: кадмиевые стержни постепенно вынимали из реактора, одновременно замеряя возраставший нейтронный поток. По этим данным можно было понять, идет или не идет самоподдерживающаяся цепная реакция.
Еще один кадмиевый стержень подвесили на тросе прямо над реактором. Это была защита на случай возможной аварии. Причем, когда сборку уложили в пятый раз, Курчатов, готовясь к запуску реактора, приказал принести обычный топор. В случае сбоя защитных систем один из сотрудников должен был перерубить трос. Упавший в реактор аварийный стержень прекратил бы цепную реакцию.
Кстати, пятая сборка – самая крупная – состояла примерно из 35 тонн металлического урана, 13 тонн оксида урана и 420 тонн графита! Все это было перенесено и уложено руками трех десятков человек, в том числе женщин. К слову, сам Курчатов не чурался физического труда.
Такие усилия не могли быть не вознаграждены. В 18 часов 25 декабря 1946 года, после извлечения кадмиевых стержней, в котле запустилась самоподдерживающаяся цепная реакция. Впервые за пределами США заработал атомный реактор, и произошло это в Москве!

Говорят, что председатель Специального комитета Берия не сразу поверил в успешный пуск атомного котла и попросил Курчатова на следующий день еще раз запустить ядерную реакцию в его присутствии. Процедуру, естественно, повторили.
Иначе рассказывает непосредственный свидетель событий Е.П. Славский. По его словам, Игорь Васильевич известил начальника Первого главного управления Ванникова, тот – Берию, а уже всех вместе их сразу же принял Сталин.
Атомному котлу дали имя Ф-1, что обозначает «физический первый». Он славно потрудился в интересах атомного проекта СССР, произведя первые значительные количества плутония. Химики обрадовались: теперь они могли выделить новый элемент из урановых цилиндриков, облученных в реакторе, и подробно изучить его свойства. Без этого бомбу сделать было нельзя.
Конструкцию и опыт эксплуатации Ф-1 положили в основу первого крупного, промышленного реактора для производства оружейного плутония А-1 – «Аннушки», как ласково называют его атомщики. Эту установку разместили подальше от любопытных глаз и густонаселенных мест – на Южном Урале, в Челябинской области, вблизи старинного города Кыштым. Кроме реактора А-1 на площадке построили завод «Б», где из облученного природного урана должны были выделять плутоний по технологии, разработанной в ленинградском Радиевом институте под руководством академика В.Г. Хлопина. А еще один завод («В») был предназначен для производства металлического плутония особой чистоты – по сути, заряда атомной бомбы. Промышленный комплекс, объединявший перечисленные объекты, получил секретное название «Комбинат № 817», а в настоящее время он известен как Производственное объединение «Маяк» (г. Озерск).
Работами по строительству и монтажу реактора А-1 руководил уже упомянутый Славский. Запуск котла состоялся 18 июня 1948 года под пристальным вниманием Курчатова.
Конструкция реактора А-1, конечно, не была совершенной. Котел обладал высокой мощностью, и поэтому – в отличие от Ф-1 – требовал охлаждения водой. Иногда – по разным причинам – урановые блочки перегревались и распухали, в канале появлялся так называемый «козел». Приходилось останавливать реактор и перезагружать топливо.
Потом произошел еще один, крайне неприятный случай: алюминиевые каналы реактора стали быстро корродировать и выходить из строя. Дальнейшая работа была невозможна. Котел предстояло полностью (!) разгрузить, отсортировать все блочки и снова поместить их в реактор.
Далее – со слов Е.П. Славского:
«В ту ночь в реакторном зале дежурил сам Курчатов. Надо было проверить и загрузить свежие блочки. Игорь Васильевич, сидя у стола, через лупу рассматривал их (проверял, нет ли повреждённых) и сортировал. А сигнализация была устроена так, что если бы радиоактивность стала больше положенной нормы, то раздались бы звонки. Кроме того, звуковая сигнализация была дублирована световой – загорались разные лампочки. Но так как «радиоактивная гадость» была большая, мы, конечно, выключали эти самые звонки и «загрубили» световую сигнализацию. А тут вдруг она загорелась. Мгновенно доставили ионизационную камеру и установили, что в том самом месте, где сидит Курчатов, у него на столе, находятся мощно облученные блочки. Если бы он сидел там, пока все их не отсортировал, – ещё тогда мог бы погибнуть!»
Справившись с неизбежными сложностями, к июлю 1949 года на комбинате № 817 изготовили компоненты плутониевого заряда первой атомной бомбы.
Конструкцию атомной бомбы разрабатывали – конечно, с учетом разведданных – в Конструкторское бюро № 11 (КБ-11) при Лаборатории № 2, куда главным конструктором был назначен Юлий Борисович Харитон (1904-1996). Чтобы не запутаться в кодовых наименованиях, можно сказать, что к настоящему времени КБ-11 дорос до звания Российского федерального ядерного центра. Теперь это «Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики», который находится в «закрытом» городе Саров Нижегородской области.
В 1946 году правительство поручило КБ-11 сконструировать и предъявить на государственные испытания «Реактивный двигатель С» (сокращенно «РДС»). Так – по вполне понятным причинам – называли атомную бомбу. Ну а аббревиатуру РДС каждый расшифровывал, как хотел. «В народе» были популярны следующие варианты: «Реактивный двигатель Сталина» или «Россия делает сама».
Харитон с сотрудниками с честью выполнили возложенную на них миссию.
ЛИЧНОСТЬ: ЮЛИЙ БОРИСОВИЧ ХАРИТОН (1904-1996)
Один из руководителей советского атомного проекта, по сути – главный конструктор атомной бомбы.
Мальчишкой будущий академик хорошо учился и, прыгая через класс, окончил школу в пятнадцать лет. В том же году захотел поступить в петроградский Технологический институт, куда его не смогли принять из-за возраста. Год, оставшийся до шестнадцатилетия, Харитон не провел даром – устроился работать в качестве ученика механика в мастерские железнодорожного телеграфа. Приобретенный опыт, скорее всего, и определил выбор электромеханического факультета Политехнического института, на который его зачислили в 1920 году. Но «роман» с электротехникой продлился недолго: слушая лекции по общей физике, которые блестяще читал Абрам Федорович Иоффе, молодой студент понял, что на свете нет ничего интереснее физики. И перевелся на недавно созданный физико-механический факультет, где деканом был как раз Иоффе. Дальше – дело времени: способного юношу заметил и пригласил в свою лабораторию Николай Николаевич Семенов, которому в 1956 году предстояло получить Нобелевскую премию по химии за разработку теории цепных реакций. Интересно, что именно Харитон своими исследованиями горения фосфора в кислороде и «направил» Семенова в эту область науки, находящуюся на стыке физики и химии.
Работа в Физтехе была осложнена чисто бытовыми проблемами, но Юлий Борисович не унывал. Замерз водопровод – сделали с коллегами «самопальный» из аккумуляторного бака и трубочек, и каждый день заполняли его, таская воду из уличной колонки ведрами. Рядом сложили печку, которую топили дважды в сутки, самостоятельно заготавливая дрова. В таких нелегких условиях ковался характер будущего главного конструктора атомной бомбы.
В 1926 году Харитону выпал счастливый билет: он отправился в научную командировку в Кавендишскую лабораторию (Кембридж), чтобы поработать под руководством Эрнеста Резерфорда и Джеймса Чедвика. Это был бесценный опыт, завершившийся через два года получением европейской степени доктора философии.
Посетив Берлин, еще не находившийся под властью Гитлера, Юлий Борисович уже ощутил тлетворный «запах» нацизма. Немецкие ученые только улыбались в ответ на его тревожные вопросы и говорили, что серьезно воспринимать «опереточных мальчиков» – нацистов – не нужно, они не представляют опасности. Подобное самоуспокоение впоследствии стоило многим специалистам должности, гражданства или даже жизни.
После возвращения в ленинградский Физтех Юлий Борисович сосредоточился на совершенствовании теории взрывчатых веществ. Это позволило ему впоследствии начать расчеты критической массы урана, необходимой для взрыва атомного заряда, и в итоге – стать главным конструктором бомбы.
Когда его спросили о морально-этических аспектах участия в разработке столь грозного военного средства, Харитон честно ответил: «У нас была сверхзадача: в кратчайшие сроки создать сверхмощное оружие, которое могло бы защитить нашу Родину. Когда удалось решить эту проблему, мы почувствовали облегчение, даже счастье, ведь, овладев новым оружием, мы лишили другие страны возможности применить его против СССР безнаказанно, а значит, оно служит миру и безопасности. Все, кто принимал участие в Атомном проекте, сознавали это и работали, не считаясь ни со временем, ни с трудностями, ни со здоровьем»… Лучше, наверное, и не скажешь.
Юлий Борисович Харитон прекрасно понимал роль атомного оружия как фактора, удерживающего мир от большой войны. Именно поэтому он не стеснялся своего участия в атомном проекте. Но в еще большей степени выдающийся ученый ратовал за строительство АЭС, считая атомную энергетику «магистральным путем развития человечества». При одном условии: «Вопросы безопасности должны находиться на первом плане». Для современных атомщиков эти слова звучат как заповедь.
2 августа 1949 года Курчатов и Харитон подписали акт, подтверждавший годность плутониевого заряда, произведенного на комбинате № 817, а уже 8 августа заряд был доставлен в КБ-11. Там в ночь с 10 на 11 августа выполнили контрольную сборку бомбы РДС-1. Дальше ее путь лежал на полигон под Семипалатинском (Казахстан). Пора было проводить испытания.
Бомбу разместили на металлической башне высотой около 40 метров. Вокруг нее построили множество различных сооружений, поместили военную технику и даже животных. Окрестности были напичканы измерительной аппаратурой. О взрыве – если он произойдет – нужно было узнать как можно больше: поражающие факторы, возможный ущерб и т.п.
Многолетние усилия лучших ученых и инженеров – все они сконцентрировались в этом пузатом «изделии», закрепленном на верхушке башни. А если не рванет? Можно с уверенностью сказать, что нервы были на пределе у всех участников испытаний, даже у Берии.
Ровно в 7 утра 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне (Казахстан) прогремел взрыв чудовищной силы. Его мощность превысила 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. На месте башни образовалась воронка диаметром 3 метра и глубиной 1,5 метра, покрытая оплавленным стеклоподобным веществом. Здания, машины, самолеты – все, что находилось в зоне воздействия ударной волны, было разрушено или повреждено.
Это означало, что испытания завершились успешно и монополии США на атомное оружие пришел конец.


«В момент взрыва на месте центральной части появилось светящееся полушарие, размеры которого в 4–5 раз превышали размеры солнечного диска, и яркость была в несколько раз больше солнечной. После первой вспышки наблюдавшие сняли очки и увидели большую огненную полусферу золотистого цвета, которая затем превратилась в большое бушующее пламя и в следующий момент сменилась быстро поднимавшимся столбом дыма и пыли …»
Из воспоминаний участника испытаний А.И. Веретенникова
«Входные бронированные двери были закрыты и заперты сейфовыми замками. Все отошли от стен и, встав в середине комнаты, замерли в ожидании. [Обратный отсчет.] Мгновение – тишина, а потом под ногами земля вздрогнула – и вновь всё стихло… Мы молчали, а пауза тянулась бесконечно долго… Сколько?.. Не знаю, потому что никто не смотрел на часы, но отчётливо помню, как они медленно отбивали секунды. И вдруг – оглушительный удар, громовой грохот. И вновь тишина. Все стояли онемевшие. Кто-то первым бросился к двери, и все тут же ринулись за ним. И мы увидели страшную картину: на том месте, где была башня, поднимался в облака огромный пылегазовый столб. Ослепительные лучи солнца падали на землю через огромных размеров отверстия – взрыв отбросил плотный слой облаков далеко в стороны. Чудовищной силы волна продолжала разгонять дождевые тучи, а газовый столб над местом взрыва ушёл в небо…»
«Начальство вышло из командного пункта. Был и Берия со своим телохранителем – вооружённым до зубов полковником. Все обнимались, поздравляли друг друга. Потом Берия предложил заряду, который так хорошо сработал, дать какое-то название. Курчатов сказал, что… заряд назван РДС–1, то есть «Россия делает сама». Берия заулыбался, сказал, что Сталину это понравится…»
Из воспоминаний участника испытаний В.И. Жучихина
Надо признать, что первая советская бомба была практически копией американской. Харитон так и выразился в своем интервью корреспонденту газеты «Красная Звезда», опубликованном 11 августа 1992 года. Чуть позже он пояснил, что «это был самый быстрый и надёжный способ показать, что у нас тоже есть ядерное оружие. Более эффективные конструкции, которые нам виделись, могли подождать».
О каких конструкциях говорил Юлий Борисович? Ну, например, уже в 1951 году были проведены испытания заряда, целиком разработанного советскими специалистами – более легкого и более мощного, нежели американский «конкурент». А 12 марта 1953 года СССР взорвал первую транспортабельную водородную бомбу, значительно опередив США.
Таким образом, наши наука и промышленность были вполне конкурентоспособны. «Скопировать» американский вариант пришлось из-за складывавшихся геополитических условий. Разведданные, без сомнений, сэкономили нам год-два. Но ведь добытая разведкой схема заряда вовсе не отменяла необходимость разработки конструкторской и технологической документации. Это целиком и полностью было сделано нашими специалистами.
К слову, англичане смогли испытать свою первую атомную бомбу лишь в 1952 году, даром что многие их ученые имели прямой доступ к материалам Манхэттенского проекта. Так что, не стоит переоценивать значимость данных, «позаимствованных» у США; и тем более, нельзя пренебрежительно отзываться о наших профессионалах. На самом деле, они совершили подвиг.
Еще удивительнее, что за короткие четыре года в стране, пережившей самую страшную войну в своей истории, была создана эффективная атомная промышленность. Кроме «плутониевой» цепочки заводов, были построены предприятия по обогащению урана. К примеру, комбинат № 813 в Новоуральске Свердловской области дал первую продукцию – высокообогащенный уран – уже в 1949 году. Все это позволило не только успешно провести испытания первой бомбы, но и накопить необходимый арсенал, который и сегодня сдерживает мир от большой войны, а наших недоброжелателей – от нападения на Россию.
Первые атомные
Неудивительно, что после успешных испытаний РДС-1 Советский Союз запустил друг за другом несколько новых, более мощных реакторов для наработки оружейного плутония. Эти котлы, известные как промышленные уран-графитовые реакторы (ПУГР), позволили изготовить необходимое количество зарядов для атомных бомб. В настоящее время все они остановлены, поскольку Россия и США договорились постепенно сокращать свои арсеналы атомного оружия. Но в те годы работа ПУГР имела государственное значение.
Однако созданная в СССР промышленность была способна на большее, нежели серийная штамповка бомб. Идея использования атомной энергии в мирных целях появилась практически одновременно с оружейной программой. Правда, ее пришлось отложить до поры до времени, пока не удалось решить задачу создания атомной бомбы. Но в начале 1950-х годов идею атомной электростанции (АЭС) «достали с полки».
Дело в том, что в ходе цепной реакции деления выделяется тепло. При эксплуатации первых промышленных уран-графитовых реакторов, от которых требовался только плутоний, это тепло уходило в окружающую среду вместе с охлаждающей водой. Но воду в реакторе вполне можно было нагреть до состояния пара, после чего направить на турбогенератор, который произвел бы электрический ток.
Вооружившись опытом эксплуатации ПУГР, первый уран-графитовый котел с водяным охлаждением для производства электричества начали сооружать на территории организации, которая теперь называется «Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского» (ГНЦ РФ-ФЭИ). Ну, а во времена, о которых идет речь, организация называлась завуалировано: Лаборатория «В».
Располагалась лаборатория на севере Калужской области в 100 км от Москвы, – с одной стороны, достаточно далеко от города (на случай непредвиденных «неприятностей»), с другой, – достаточно близко для транспортировки материалов и оборудования.
Показательно, что в нашей стране у руля проекта по сооружению Первой АЭС встал ученый, которого называют «отцом атомной бомбы». Речь идет, конечно, об Игоре Васильевиче Курчатове. Группа ученых во главе с Курчатовым в кратчайшие сроки подготовила эскизный проект, и 12 июня 1951 года вышло Постановление Совета Министров СССР о сооружении на территории Лаборатории «В» опытной электрической станции, называемой в ранних документах «установкой В-10». Работа началась…
Котел было поручено спроектировать коллективу под руководством Николая Антоновича Доллежаля, человека, создавшего первые ПУГР и реактор для нашей первой атомной подводной лодки. Этот реактор был назван АМ-1, что означает «Атом Мирный – Первый» (название предложено лично Курчатовым).
С момента выхода Постановления Совмина СССР (от 12.06.1951) прошло меньше трех лет – и 9 мая 1954 года был осуществлен физический пуск реактора, то есть в реакторе Первой АЭС началась самоподдерживающаяся цепная реакция деления ядер урана.
26 июня 1954 года пар из реактора пошел на турбину, электрогенератор начал вырабатывать электрический ток – таким образом, состоялся энергетический пуск Первой АЭС. Когда при пуске из контрольной трубки наконец-то пошел дымок, входивший в состав Государственной приемочной комиссии академик Анатолий Петрович Александров, поздравил своего друга и коллегу Курчатова "с легким паром". По слухам, Курчатов радовался, как ребенок, – но с учетом обстоятельств, это было вполне естественной реакцией.
Уже на следующий день весь мир облетело сообщение ТАСС: «В Советском Союзе усилиями ученых и инженеров успешно завершены работы по проектированию и строительству первой промышленной электростанции на атомной энергии полезной мощностью 5000 киловатт. 27 июня атомная станция была пущена в эксплуатацию и дала электрический ток для промышленности и сельского хозяйства прилежащих районов».
Именно 27 июня 1954 года официально считается точкой отсчета для мировой атомной энергетики.
За весь долгий срок эксплуатации Обнинской АЭС (48 лет!) не было ни одного случая опасного облучения персонала; окружающая местность в радиусе трех километров (включая город-спутник Обнинск) ни разу не подвергалась радиационному загрязнению, которое повлекло бы превышение природного фона.

Интересно, что в деле использования мирного атома американцы не считают нас первыми. Насколько это справедливо, судите сами: 20 декабря 1951 года ядерный реактор EBR-1, построенный в лаборатории INEEL в США, выработал достаточное количество электрической энергии, чтобы зажечь… четыре 100-ваттные лампочки! Да и передача электроэнергии в сеть была осуществлена впервые в мире именно на Обнинской АЭС. Если же говорить о серьезном проекте, сопоставимом с нашей Первой АЭС, то он был реализован в Колдер-Холле (Великобритания): построенная там станция дала ток через два года после пуска Обнинской АЭС, и хотя ее мощность была намного выше (46 МВт), исторически, она все-таки вторая...
Параллельно с запуском Первой в мире (Обнинской) АЭС шли интенсивные работы по созданию атомного флота. Под руководством уже упомянутого Анатолия Петровича Александрова (1903-1994) была построена первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол». Она вступила в строй в 1958 году, на несколько лет позже атомной субмарины США, носившей жюль-верновское имя «Наутилус». Но вот надводное атомное судно – ледокол «Ленин» – мы создали первыми. Он вошел в строй в 1959 году. (Более подробно об истории создания отечественного атомного флота будет рассказано в главе 6).
ЛИЧНОСТЬ: АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ АЛЕКСАНДРОВ (1903-1994)
Друг и соратник Курчатова, один из корифеев советского атомного проекта, разносторонний ученый. Первая отечественная атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» была построена именно под его руководством.
Удивительно, но будущий трижды Герой Социалистического Труда в юности успел поучаствовать в Гражданской войне (1917-1923) на стороне белой армии, и даже был награжден. Сам Александров на протяжении всей жизни тщательно сохранял эту часть личной биографии в тайне, поскольку она могла трагическим образом отразиться на его карьере. К счастью, «белогвардейский» эпизод не оказал влияния на дальнейший жизненный путь Александрова: соответствующие органы то ли были не в курсе дела, то ли учли масштаб личности ученого. Ну а с сегодняшних позиций участие в сопротивлении большевикам уже не кажется предосудительным. Неразбериха, царившая в годы Гражданской войны в России, вообще не позволяла понять, где добро, а где зло. Каждый делал выбор в соответствии со своим воспитанием. Анатолий Петрович оказался на стороне защитников традиционных, устоявшихся ценностей, воевавших против революционеров. Правда, выход поэмы Блока «Двенадцать» и появление масштабного плана по электрификации России (ГОЭЛРО) постепенно изменили его отношение к новой власти.
В первые послевоенные – голодные – годы он использовал свои познания в химии, полученные в Киевском реальном училище, для приработка. Мыло, сваренное им совместно с братом, хорошо продавалось, а уж советы Александрова по самогоноварению и очистке «продукта» и вовсе принесли юноше хоть небольшую, но популярность. Не стеснялся он и работы сельским учителем, электриком, осветителем в оперном театре.
В конце учебы в Киевском университете Анатолий Петрович параллельно проводил исследования в Киевском Рентгеновском институте, результатами которых заинтересовался А.Ф. Иоффе – директор ленинградского Физтеха. Он и пригласил молодого Александрова в город на Неве. В Физтехе его талант ученого раскрылся в полной мере. Подробные исследования полимеров в лаборатории Александрова привели, в частности, к получению морозостойкого каучука, крайне необходимого при изготовлении самолетных шин.
Наша страна многим обязана этому выдающемуся человеку. Можно напомнить про метод размагничивания корпусов кораблей, который Анатолий Петрович в свойственной ему манере обосновывал на простейшей модели – стальном сварном корыте. Простой подход, но эффективный; сколько людей осталось в живых, не подорвавшись на магнитных минах. А потом была работа в атомном проекте у Курчатова, давнего друга: разработка метода разделения изотопов урана, получения тяжелого изотопа водорода – дейтерия, покрытия плутониевого заряда антикоррозионным слоем никеля. Сложнейшие для того времени технологии, требующие значительного интеллектуального напряжения и аккуратности. Обработку плутониевых полушарий – заряда первой атомной бомбы – в 1949 году Анатолий Петрович вообще выполнил собственноручно: Курчатов лично попросил человека с «золотыми руками» произвести эту тонкую операцию.
Под научным руководством и при непосредственном участии Александрова были разработаны первые советские промышленные реакторы для наработки оружейного плутония, атомные подводные лодки и ледоколы, а также крупные реакторы РБМК – как их еще называют, «чернобыльского» типа. Надо сказать, что Анатолий Петрович Александров глубоко переживал произошедшую на Украине аварию, считал ее трагедией своей жизни.
Но все же Анатолий Петрович запомнился коллегам как вдумчивый, трудолюбивый, демократичный, честный, смелый и в меру веселый человек. «Если ты беременна – знай, что это временно, если ж ты балда, то это навсегда», – написал он на не самом удачном отчете одного из сотрудников. Говорят, что автор не обиделся и учел критику.
Пятидесятые и шестидесятые годы прошлого века вообще стали временем атомного романтизма. Казалось, что энергия, кроющаяся внутри ядра, уже настолько освоена человеком, что может использоваться чуть ли не дома. Появились проекты танков, самолетов, тепловозов и даже автомобилей с атомными реакторами внутри. (О них подробнее – в главе 8). К счастью, эти идеи не дошли до реализации, поскольку специалисты осознали риск и последствия возможных аварий.
Один из ярких примеров «атомного романтизма» – проект Carryall 1963 года, предлагавший использование атомных бомб в дорожном строительстве. Чтобы пробить туннель в калифорнийском горном массиве Бристоль на юге пустыни Мохаве, предлагалось взорвать 23 атомных заряда суммарной мощностью 50 килотонн. По туннелю предполагалось проложить ветку железной дороги и скоростное шоссе. Из-за потенциальной опасности проект не реализовали.
В СССР мирные атомные взрывы использовались для создания подземных емкостей, сейсмических исследований, интенсификации добычи нефти и газа. Всего в рамках секретной «Программы № 7» (1965-1988) их было проведено более сотни.
В то же время атомный романтизм подтолкнул наших ученых к созданию принципиально новых «котлов». Речь идет о реакторе на быстрых нейтронах БР-5, запущенном в 1959 году в Физико-энергетическом институте (Обнинск, Калужская область). БР-5 был особенным потому, что охлаждался не водой, а жидким натрием. Сейчас этот подход считается наиболее перспективным. Более того, говорят, что за реакторами на быстрых нейтронах – будущее, поскольку они эффективнее используют ядерное топливо. Что ж, благодаря БР-5 и последующим более мощным реакторам, Россия сегодня уверенно занимает лидирующие позиции в сфере «быстрых» технологий. (Эта тема более подробно раскрыта в главе 6, посвященной атомной энергетике).
Еще одна новинка мирового уровня – первый в истории токамак, тороидальная камера с магнитными катушками (1954). Уникальная разработка для «усмирения» процессов, происходящих в термоядерной бомбе, была заложена в основу Международного экспериментального термоядерного реактора ITER, ныне сооружаемого во Франции (см. главу 4). Возможно, что человечеству когда-нибудь удастся поставить себе на службу энергию термоядерного синтеза, и в этом будет большой вклад советских ученых – авторов токамака (А.Д. Сахаров, И.Е. Тамм).
Семидесятые и первая половина восьмидесятых годов ХХ века в СССР стали временем массового строительства атомных электростанций: развивающаяся экономика нуждалась в новых источниках энергии. В этот период было построено большинство атомных энергоблоков, эксплуатируемых сегодня (см. главу 4). К сожалению, бурное развитие «мирного атома» было прервано Чернобыльской аварией (26.04.1986), которая привела к коренному пересмотру требований безопасности (см. главу 5).
В настоящее время развитие атомной энергетики в России и в мире возобновилось. Наша страна сооружает у себя и предлагает на мировом рынке услуги по строительству АЭС, степень безопасности которых соответствует самым жестким требованиям (см. главы 5 и 9).
Завершая обзор основных этапов овладения атомной энергией, следует с сожалением отметить, что в него не вошли многие и многие знаменательные события и выдающиеся деятели атомного проекта СССР. Материал, изложенный в этой главе, поэтому стоит рассматривать лишь как приглашение к более подробному знакомству с историческими хрониками, архивными документами и биографиями выдающихся деятелей, создававших нашу атомную отрасль.
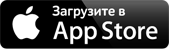





_w860_h1147.jpg)



_w860_h1147.jpg)
_w860_h1147.jpg)
_w860_h1147.jpg)
